 Статья адресуется срочно и лично Президенту Республики Беларусь господину Лукашенко Александру Григорьевичу [1] , Парламенту Республики Беларусь, Геральдическому совету при президенте и братскому народу республики Беларусь.
Статья адресуется срочно и лично Президенту Республики Беларусь господину Лукашенко Александру Григорьевичу [1] , Парламенту Республики Беларусь, Геральдическому совету при президенте и братскому народу республики Беларусь.
 Статья адресуется срочно и лично Президенту Республики Беларусь господину Лукашенко Александру Григорьевичу [1] , Парламенту Республики Беларусь, Геральдическому совету при президенте и братскому народу республики Беларусь.
Статья адресуется срочно и лично Президенту Республики Беларусь господину Лукашенко Александру Григорьевичу [1] , Парламенту Республики Беларусь, Геральдическому совету при президенте и братскому народу республики Беларусь.
 Настоящая работа открывает новый раздел на сайте. Он называется – «Сакральная Геральдика». В этом разделе мы сможем увидеть массу интересного, а самым интересным окажется тот тайный факт, что граждане любого государства «носят свой герб», как «головной убор», на своей голове. Первым в этом ряду мы исследуем герб и флаг Тибета.
Настоящая работа открывает новый раздел на сайте. Он называется – «Сакральная Геральдика». В этом разделе мы сможем увидеть массу интересного, а самым интересным окажется тот тайный факт, что граждане любого государства «носят свой герб», как «головной убор», на своей голове. Первым в этом ряду мы исследуем герб и флаг Тибета.
 Добавлено видео выступления автора в клубе Искатель. Эта работа посвящена исследованию сложившихся у научной общественности стереотипных взглядов при анализе сакрального смысла Книги Бытие:
Добавлено видео выступления автора в клубе Искатель. Эта работа посвящена исследованию сложившихся у научной общественности стереотипных взглядов при анализе сакрального смысла Книги Бытие:
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
 Добавлены Отзыв на работу и Приложение. Данная работа посвящена описанию результатов наших исследований фасада древнего замка Каср аль-Фарид и древней армянской Церкви Святой Богоматери в монастыре Нораванк с помощью знаний о матрице Мироздания фасада одинокого замка. Оказалось, что в архитектуре фасадов этих храмов есть прямые указания на сакральные знания жрецов древности о матрице Мироздания. Фактически архитектура фасадов храмов выступает в роли священных символов древности отражающих знания о поле Божественных энергий для Творения Мироздания.
Добавлены Отзыв на работу и Приложение. Данная работа посвящена описанию результатов наших исследований фасада древнего замка Каср аль-Фарид и древней армянской Церкви Святой Богоматери в монастыре Нораванк с помощью знаний о матрице Мироздания фасада одинокого замка. Оказалось, что в архитектуре фасадов этих храмов есть прямые указания на сакральные знания жрецов древности о матрице Мироздания. Фактически архитектура фасадов храмов выступает в роли священных символов древности отражающих знания о поле Божественных энергий для Творения Мироздания.
 В этой работе мы расскажем об одной из сакральных тайн Христианства. В результате наших исследований мы обнаружили, что в притчах Господь Иисус Христос проповедовал иудеям «Ведические Знания» о Божественном Мироздании и о человеке.
В этой работе мы расскажем об одной из сакральных тайн Христианства. В результате наших исследований мы обнаружили, что в притчах Господь Иисус Христос проповедовал иудеям «Ведические Знания» о Божественном Мироздании и о человеке.
Читать далее В притчах Господь Иисус Христос проповедовал иудеям Ведические Знания
 В этой статье мы приведем текст Выступление доктора исторических наук Ростислава Борисовича Рыбакова на мероприятии благотворительного фонда «Дельфис». В одной из своих работ Рыбакова Р.Б. говорил: «Все мы устали от употребляемых всуе высоких слов. И потому, верно, их уже не воспринимаем. Как не воспринимаем и известий о создании новых обществ, ассоциаций и движений. Слишком много их развелось! И потому первая реакция на формирующееся сейчас (подобные институты) — настороженная». Тем не менее, на нас это удивительно широкое по охвату, глубине по содержанию, простое и четкое выступление фактически о науке «Религиоведение» произвело неизгладимое впечатление. В частности, он пишет: « … нам нужна совершенно новая наука, иное религиоведение, ищущее единство во всем». Этот тезис хорошо согласуется с тематикой нашего сайта, на котором излагается «новая – хорошо забытая» Наука древних мудрецов о сакральном базисе всех, известных нам Религий, которым была «Матрица Мироздания» или «Энергетическая матрица Мироздания». Итак, мы воспроизводим текст этого выступления Рыбакова Р.Б. на нашем сайте.
В этой статье мы приведем текст Выступление доктора исторических наук Ростислава Борисовича Рыбакова на мероприятии благотворительного фонда «Дельфис». В одной из своих работ Рыбакова Р.Б. говорил: «Все мы устали от употребляемых всуе высоких слов. И потому, верно, их уже не воспринимаем. Как не воспринимаем и известий о создании новых обществ, ассоциаций и движений. Слишком много их развелось! И потому первая реакция на формирующееся сейчас (подобные институты) — настороженная». Тем не менее, на нас это удивительно широкое по охвату, глубине по содержанию, простое и четкое выступление фактически о науке «Религиоведение» произвело неизгладимое впечатление. В частности, он пишет: « … нам нужна совершенно новая наука, иное религиоведение, ищущее единство во всем». Этот тезис хорошо согласуется с тематикой нашего сайта, на котором излагается «новая – хорошо забытая» Наука древних мудрецов о сакральном базисе всех, известных нам Религий, которым была «Матрица Мироздания» или «Энергетическая матрица Мироздания». Итак, мы воспроизводим текст этого выступления Рыбакова Р.Б. на нашем сайте.
Выступление доктора исторических наук Ростислава Борисовича Рыбакова на мероприятии благотворительного фонда «Дельфис» [1]
«К 850-летию Москвы Российская Академия наук, Институт востоковедения РАН, Российский фонд культуры, Международная лига защиты культуры и Ассоциация творческих учителей России организовали лекторий «Духовное развитие человечества и современная Россия» для учителей. Он проходит каждый третий четверг актовом зале Института востоковедения. Лекторий открылся блестящим выступлением директора Института востоковедения доктора исторических наук РОСТИСЛАВА БОРИСОВИЧА РЫБАКОВА. Не все, желающие участвовать в этом семинаре, могут приехать из разных уголков России в Москву. Поэтому редакция решила публиковать наиболее интересные выступления на страницах нашего журнала. И, конечно, сначала — слово члену редколлегии «Дельфиса» Ростиславу Борисовичу Рыбакову.
 Рис. 1. Ростислав Борисович Рыбаков. На мероприятии благотворительного фонда «Дельфис», 6 августа 2009г. Родился в Москве, 28 марта 1938 г. Научная сфера – Религиоведение. Ученая степень – доктор исторических наук. Альма-матер: — Институт стран Азии и Африки[2] при МГУ им. М.В.Ломоносова. Известен как: директор академического института, исследователь синтеза модернистского и традиционного в религиозно-культурной сфере. Ростислав Борисович Рыбаков — крупнейший индолог нашей страны, доктор исторических наук, в 1994-2009 гг. — директор Института Востоковедения РАН, один из создателей Восточного университета, Советского фонда Рерихов, доверенное лицо и друг С.Н. Рериха, автор и руководитель многих международных проектов, направленных на сближение Запада с Востоком. Один из учредителей Благотворительного фонда «Дельфис». (Прим. ред.)
Рис. 1. Ростислав Борисович Рыбаков. На мероприятии благотворительного фонда «Дельфис», 6 августа 2009г. Родился в Москве, 28 марта 1938 г. Научная сфера – Религиоведение. Ученая степень – доктор исторических наук. Альма-матер: — Институт стран Азии и Африки[2] при МГУ им. М.В.Ломоносова. Известен как: директор академического института, исследователь синтеза модернистского и традиционного в религиозно-культурной сфере. Ростислав Борисович Рыбаков — крупнейший индолог нашей страны, доктор исторических наук, в 1994-2009 гг. — директор Института Востоковедения РАН, один из создателей Восточного университета, Советского фонда Рерихов, доверенное лицо и друг С.Н. Рериха, автор и руководитель многих международных проектов, направленных на сближение Запада с Востоком. Один из учредителей Благотворительного фонда «Дельфис». (Прим. ред.)
2000-й год — хоть и условная дата, привязанная к христианскому летоисчислению, но, тем не менее, определяющая наше поведение и имеющая всемирное значение. Это не просто конец десятилетия, конец века — это конец и начало тысячелетия. Волей-неволей люди начинают, с одной стороны, оглядываться и оценивать пройденный путь, а с другой, — пытаются встать на цыпочки и заглянуть вперед — что же там, за ближайшим историческим поворотом? Тысячелетие — слишком крупный масштаб, и потому не будем о нем говорить. Но о столетии порассуждаем.
Недавно в Академии наук проходил симпозиум: что такое XX век? Похож он или нет на предыдущие столетия — XIX, XVIII и более ранние? А может быть, просто исторические масштабы приобрели иную соизмеримость и стали глобальными?
Мне кажется, что такая постановка вопроса несколько надуманна: есть и то и другое. Если мы все-таки будем говорить о специфических особенностях XX века, а не о масштабах его войн и потрясений, то, как мне представляется, в конце XIX или в начале XX века произошли два события, которые не имели места в прошлом. Формально говоря, произошло покорение двух ипостасей жизни человека и человечества — времени и пространства. Именно в XX веке вся земля стала освоенной человеком не в плане практическом, а в плане географически-туристическом, то есть на земле не осталось белых пятен. Но дело не только в этом. Пространство сжалось благодаря удивительным средствам связи, планета стала маленькой. Это вызвало к жизни совершенно новое мироощущение. Более того, в этом есть не только чисто позитивный, как бы прогрессивный момент, но и отрицательный, ибо, сжавшись, планета получила клубок проблем, которые не только на нее влияют, но и могут разрушить. Так называемый технический прогресс привел к тому, что человечество стало способным уничтожить себя и полностью уничтожить планету.
Покорение времени, может быть, не так очевидно. И, тем не менее, в прошлом власть человека над временем проявлялась чисто творчески, через искусство, в основном через живопись, архитектуру, в которых время передавалось, транслировалось, останавливалось. Сейчас у нас есть такие совершенно фантастические с точки зрения XIX века изобретения, как фото-, кино-, видеокамеры. Сейчас с помощью компьютера мы можем изменять кинохронику былых лет, мы можем в подлинную киноленту прошлого внедрить актера, живущего сегодня, фальсифицируя, конечно, тем самым документ. Таким образом, оказывается, технически стало возможно изменять даже уже завершившееся и зафиксированное, то есть время уже не только остановлено, но и покорено.
Есть еще один немаловажный момент: резко изменился стандарт общественного мнения. И дело не в том, что кривая образования пошла вверх, кстати, это не означает, что оно стало намного качественнее. Количественно же оно, бесспорно, распространилось по всей земле, и недалек век всеобщей грамотности. И какие-то идеалы, которые раньше были прерогативой только отдельных мыслителей, сейчас вошли в плоть и кровь практически каждого человека независимо от того, в какой стране он живет, в какой части света. Я имею в виду такие понятия, как свобода, равенство, неприятие расизма, — это последнее очень важно и характеризует собой именно век XX. У меня как у индолога в этой связи отсчетом является жизнь Махатмы Ганди, который сумел изменить отношение к людям иного цвета кожи, но нельзя не отметить и значение американских событий 60-х годов, нельзя не вспомнить их лидера М.Л.Кинга, кстати, идейного ученика Ганди. Конечно, и сейчас далеко не все разделяют идею расового равенства. Но, тем не менее, выступать с этим открыто не принято, не прилично. И это понимают все. Понимают южноафриканцы, немцы, понимаем и мы. Хотя отдельные экстремистские выступления фашистского или антисемитского толка все еще существуют.
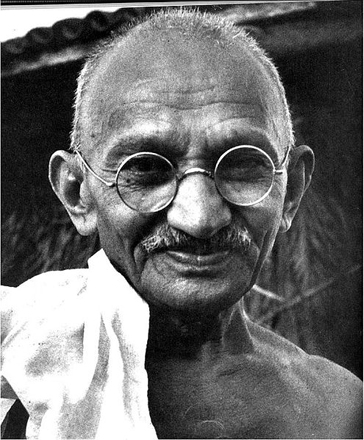 Рис. 2. Моханда́с Карамча́нд «Маха́тма» Га́нди [2] (гудж. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, хинди मोहनदास करमचंद गाँधी, 2 октября 1869, Порбандар, Гуджарат — 30 января 1948, Нью-Дели) — один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен. Его имя окружено в Индии таким же почитанием, с каким произносятся имена святых. Духовный лидер нации, Махатма Ганди всю свою жизнь боролся против раздирающих его страну религиозных распрей, против насилия, но на склоне лет пал его жертвой. … Ганди происходил из семьи, принадлежащей к торгово-ростовщической джати бания, относящейся к варне вайшьев. Его отец, Карамчанд Ганди (1822—1885), занимал пост дивана — главного министра — Порбандара. В семье Ганди строго соблюдались все религиозные обряды. Особенно набожной была его мать — Путлибай. Богослужение в храмах, принятие обетов, соблюдение постов, строжайшее вегетарианство, самоотречение, чтение священных книг индусов, беседы на религиозные темы — все это составляло духовную жизнь семьи юного Ганди. … Махатма Ганди еженедельно практиковал однодневную мауну. День молчания он посвящал чтению, размышлению, письменному изложению мыслей. … Альберт Эйншейн писал: «Моральное влияние, которое Ганди оказал на мыслящих людей, является намного более сильным, нежели кажется возможным в наше время с его избытком грубой силы. Мы признательны судьбе, подарившей нам столь блестящего современника, указывающего путь для грядущих поколений. … Возможно, грядущие поколения просто не поверят, что такой человек из обычной плоти и крови ходил по этой грешной земле». (Прим. ред.)
Рис. 2. Моханда́с Карамча́нд «Маха́тма» Га́нди [2] (гудж. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, хинди मोहनदास करमचंद गाँधी, 2 октября 1869, Порбандар, Гуджарат — 30 января 1948, Нью-Дели) — один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен. Его имя окружено в Индии таким же почитанием, с каким произносятся имена святых. Духовный лидер нации, Махатма Ганди всю свою жизнь боролся против раздирающих его страну религиозных распрей, против насилия, но на склоне лет пал его жертвой. … Ганди происходил из семьи, принадлежащей к торгово-ростовщической джати бания, относящейся к варне вайшьев. Его отец, Карамчанд Ганди (1822—1885), занимал пост дивана — главного министра — Порбандара. В семье Ганди строго соблюдались все религиозные обряды. Особенно набожной была его мать — Путлибай. Богослужение в храмах, принятие обетов, соблюдение постов, строжайшее вегетарианство, самоотречение, чтение священных книг индусов, беседы на религиозные темы — все это составляло духовную жизнь семьи юного Ганди. … Махатма Ганди еженедельно практиковал однодневную мауну. День молчания он посвящал чтению, размышлению, письменному изложению мыслей. … Альберт Эйншейн писал: «Моральное влияние, которое Ганди оказал на мыслящих людей, является намного более сильным, нежели кажется возможным в наше время с его избытком грубой силы. Мы признательны судьбе, подарившей нам столь блестящего современника, указывающего путь для грядущих поколений. … Возможно, грядущие поколения просто не поверят, что такой человек из обычной плоти и крови ходил по этой грешной земле». (Прим. ред.)
Вопрос о единстве человечества. Дело не только в отсутствии расистского снобизма, а в том, что человечество действительно стало единым. Безусловно, такое понимание уже вошло в сознание людей, где бы они ни жили. Это началось с эпохи освоения космоса. Новому пониманию способствуют и мрачные, поворотные моменты, как тот же Чернобыль или распространение СПИДа, экологические катастрофы, когда люди внезапно осознали, что чужой боли не бывает, что политические границы не могут стать барьером на пути вируса разрушения. Все катастрофы переходят эти границы очень легко и, в конце концов, могут распространиться на все человечество. Если где-то началась, к примеру, какая-то эпидемия, то нет никакой гарантии, что она не постучится и в наш дом. Это уже вошло в обыденное сознание человека, а значит и меняется его мировосприятие вообще.
Изменилось представление о расстоянии, о своем и чужом. Это не слишком заметные понятия. Не столь уж оригинальные, может быть, но их принес XX век. Главная особенность уходящего века в том, что Земля как бы физически, духовно и еще как угодно сжалась, стала совсем небольшой, и мы все теперь — соседи на планете. Мы, так или иначе, связаны между собой не только на техническом, но и на духовном уровне. Вопрос технического прогресса и все, что с ним связано, я комментировать не буду, а скажу несколько слов о религии и религиоведении, как они видятся в конце XX века. Наш век начинался (и это было характерно не только для большевистской или коммунистической идеологии) с того, что за религией будущего не видели. Но, с другой стороны, не видели будущего и за национальными традициями. И прошедшие 97 лет показали, что мыслители конца XIX и начала XX веков жестоко ошиблись. Все пошло иначе. Национализм оказался одной из главных сил, причем, иногда позитивной, иногда смешанной, стоявшей за глобальными изменениями XX века. Что касается религии, то в конце XIX и в конце XX века она суть различна.
Тогда, в конце XIX века, происходило (я выскажу сейчас достаточно спорную мысль, с которой, скорее всего, не все согласятся) определенное переосмысление традиционного христианства европейцами и американцами, как бы начиналась постхристианская эпоха. Это, конечно, не значит, что христианство уходит, сдается в архив. Но внутри самого христианства и на его периферии стали возникать некие течения, религиозные и нерелигиозные, а иногда и смешанные, которые если напрямую и не подвергали сомнению христианские постулаты или догмы, то предлагали некое свое толкование, которое весьма отличалось от традиционного. В этом списке — Е.П.Блаватская, Лев Толстой, и не только они. Позднее это, конечно, и Рерихи, которые напрямую несовместимы с теософией, но, тем не менее, исходили из тех же постулатов. Самое любопытное, что все эти люди, так или иначе, оказываются критиками христианства или, скажем, смотрят на него свежим взглядом. Признавая Христа, они, как правило, внецерковны. Не изнутри христианства как такового смотрят они и на Христа, и на традиции, и на церковь Христову, а из некой зоны сближения с Востоком.
Сближение Востока и Запада — это тоже результат XX века. Когда говорят о Востоке, часто употребляют одну красивую фразу, принадлежащую Д.Киплингу, что Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись. Но ведь в конце того же самого стихотворения Киплинг говорит противоположное: «И Запада нет и Востока нет, когда наступает последний день»… И не наступает ли сейчас, в конце века, день последний? Или, по крайней мере, не чувствуем ли мы, что есть такая возможность?
У нашего народа есть любимая фраза: Восток — дело тонкое. Действительно, Восток — дело тонкое, а вот что касается Востока и Запада, то происходит их постепенное сближение. Само их разделение во многом условно. Вот, к примеру, Институт востоковедения. В институте можно обнаружить отдел, который занимается Северной Африкой. Ни по каким законам географии Африку Востоком считать нельзя, но такова традиция нашего востоковедения. Да, мы занимаемся всей Азией, также изучаем и Австралию — как восточные страны. А во французских университетах, например, под восточными языками понимают русский и другие.
Кстати, как начинается востоковедение? Колонизаторы захватывают огромные пространства и встречают аборигенов, живущих по непонятным законам. И первое, что делают, — начинают изучать эту страну, чтобы понять, как ею управлять и, надо отдать им должное, ухитряются увидеть многие вещи. Сначала идут донесения купцов по вопросам торговли, потом изучение этих стран учеными. Таким образом, происходит знакомство, вглядывание в восточную культуру. Как замечательно сказал в свое время академик Алексеев, востоковедение — это изживание экзотики.
Действительно, если не принимать во внимание экзотику, то начинаешь видеть, что на Востоке тоже живут люди, и не обязательное с «песьими» головами, как говорится в пьесе у А.Н.Островского, а люди, живущие по своим, иным, законам. И вот в конце XIX века появляются мыслители, которые духовно не выносят того плена, который представляет собой ортодоксальное христианство. Они начинают поиск, и до них доходят в довольно искаженном виде совершенно удивительные идеи Востока, идеи, которые заставляют Гете на старости лет стать другим человеком, которые порождают в какой-то степени философию Шопенгауэра. Ощущение необычайной глубины восточной мысли приводит к пониманию одного из главных различий исторических путей развития Запада и Востока: первый стремится к покорению внешней природы, второй — к покорению внутренней. Но одно не исключает другое. Запад постепенно начинает дышать духом Востока. Это конец XIX, весь XX век.
И все же сейчас пришло время другое. С сжатием планеты в мире как бы появилось совершенно другое информационное поле. Восток перестал быть колониальным. Последнюю колонию — Гонконг — англичане отдали в 1997 году. В этом же году мы праздновали 50-летие независимости Индии и 50-летие независимости Пакистана. За последние послевоенные 50 лет и Европа стала другой и, что самое главное, Восток перестал быть пассивным субъектом истории и все больше влияет на общечеловеческое развитие.
Восток ныне не тот, что был 10 — 15 лет назад. Сейчас все сильнее проявляют себя «молодые драконы» из Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Тайваня. Происходят глобальные изменения. У нас, например, укоренилось представление о Японии как о западной стране, а это поистине восточное общество, традиционное, живущее во многом по законам XII — XIV веков. Не зная традиционной Японии, сегодняшнюю понять нельзя. Это все-таки Восток. Более того, я думаю, что даже в чисто экономическом плане Восток станет едва ли не самой главной силой XXI века. Перспективы стать ведущими есть у разных государств: у Турции, многих арабских стран, конечно, у Индии, Индонезии. Но Япония и Китай среди них первые. Сейчас нет такой ситуации в мире, которая предшествовала войнам 1914 и 1939 годов, когда в первом случае шел раздел территорий на сферы влияния, а во втором — раздел ресурсов, прежде всего, нефти. Сейчас рынок стал единым. В этом большая беда для нашей экономики: мы не вписались, а буквально вляпались в мировой рынок, и никому мы там особенно не нужны, ибо уже все разделено. Наше вторжение нарушает баланс, международные связи. В этом едином рынке выделить Восток, когда он давал сырье, а Запад — в лучшем случае детали для локомотива, которые потом собирались где-нибудь в Мадрасе, нельзя. Я видел в той же Индии заводы, которые, к примеру, делают приборы, часы и прочее по качеству почти как швейцарские, но они рентабельнее, потому что значительно дешевле рабочая сила.
Итак, рынок стал единым, мир — маленьким, связи — ускоренными, мгновенными. И еще одна примета времени — явное духовное проникновение Востока на Запад. Конечно, можно возразить, что есть проникновение Запада на Восток, но это другая тема. Не Запада, а Америки — по всему миру. Эта экспансия вызывает острую реакцию во всем мире. Более того, вызывают достаточно негативную реакцию и такие моменты, как, например, попытка Европы и, прежде всего, Америки навязать свое представление о правах человека, в котором в принципе ничего плохого нет. Но, когда это навязывается жителям Сингапура, у которых совершенно другие представления о правах, так же как и у китайцев (у них отнюдь не личность стоит во главе угла, а групповые, семейные, кастовые интересы), там это не срабатывает.
Если говорить об изучении этих процессов в нашей стране, то тут ситуация еще более интересная. Возьмем религию. Религиоведение долгое время подменялось институтом научного атеизма, который имел возможность рассказывать об идеологиях, культурах, цивилизациях, отличных от наших. Как это делалось? Бралась книга какого-нибудь идеологически неприемлемого Кришнамурти и называлась «К критике воззрений Кришнамурти», после заглавия давалось изложение взглядов философа, что все и читали. А как доходило до критики, книгу закрывали и ставили на полку. Хотя надо было читать и критику, потому что атеизм в общем-то красивая теория. Это учение, которое требует абсолютного бесстрашия от исповедующих его людей, гораздо большего, чем от исповедующих какую-либо другую религию. Атеисту нет никакой помощи, и надеяться не на кого. Это смелое мировосприятие. Но, к сожалению, за 70 — 80 лет мы пришли к тому, что у нас не стало ни религии, ни атеизма. Как говорил г-н Воланд в «Мастере и Маргарите»: «Да что же это такое! За что у вас ни возьмешься, ничего у вас нет». И это действительно так. Все мы считаем, что пришел 1917 год и религию «закрыли». Но я прекрасно помню, что церкви продолжали действовать во время войны, Православная церковь собирала огромные деньги и отдавала их на строительство танков. То есть такого, чтобы религию совсем искоренили, не было. Церковь, несмотря на отделение от государства, стала как бы департаментом культа. Конечно, до революции семнадцатого года положение было неоднозначным. Во-первых, у церкви всегда был и продолжает быть и нарастать страшный разлад с российской интеллигенцией. Для интеллигента до семнадцатого года ходить в церковь, исповедоваться, говеть — было скорее чисто эстетическим шагом, и не более того. Во-вторых, сращивание церкви с государством происходило и до семнадцатого года, и в доброе советское время так срослись, что и не знали, как обращаться: товарищ капитан или батюшка.
Это наша беда. В русской Православной церкви есть огромный потенциал, который сейчас почти не используется. Я имею в виду потенциал конструктивного мистицизма. Вспомним Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского, такие явления, как Оптина пустынь. На своем семинаре мы со студентами изучаем замечательную книгу — «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему». И, кстати, для меня как индолога чрезвычайно интересно то, что все в этой исповеди тысячью нитей связано с индийской духовностью. Есть очень много близкого.
Во времена научного атеизма религиоведение сводилось к тому, что изучались приход христианства на Русь, христианство и язычество, проникновение христианства в Поволжье, встреча с местными верованиями. На исходе советского периода в определенной степени изучался и ислам, когда он превратился в явление чисто политическое. Кстати, складывается мнение будто в последние 5 — 7 лет нас активно сталкивают с исламом, и прежде всего именно в политической сфере. Возмутительно, когда официальные лица позволяют себе говорить, например, что там, где ислам, — криминальная обстановка, когда ислам преподносится религией позавчерашнего дня, доведенной до совершенного фанатизма, в то время как в книгах ислама можно найти самые тончайшие мысли мировой философии. Просто о своем мы говорим только самое хорошее, а из ислама при сравнении берем самое худшее, самое примитивное и фундаменталистское. Также наши религиоведы практически не занимаются и иудаизмом. В их работах почти не затрагивался даже буддизм, изучение которого до революции российской школой буддологов было на первом месте в мире. К примеру, Дж. Неру, говоря об учении Будды, цитировал не англичан и не индийцев, а нашего ученого Щербатского.
Что касается религиоведов советского времени, то при изучении духовных учений они брали основные положения работ Маркса для оценки христианства, потом ислама и в самой меньшей степени иудаизма. Таким образом, выстроилось наше понимание духовности, на этой основе были даны законы, которые на самом деле общечеловеческими не являются. Если взять любой учебник по духовной культуре, по религиоведению, можно увидеть, что в основе всех религий обязательна вера в сверхъестественное, хотя существуют религии, в которых этого нет. Нет веры в сверхъестественное как в основополагающее свойство религии ни в буддизме, ни в индуизме, ни в даосизме, ни в конфуцианстве. А это ведь несколько миллиардов людей и большая часть человечества. Поэтому мы сейчас научного религиоведения не имеем. То, что есть, — это славные имена, очень интересные наработки, но полной картины не создается. Ибо не учтен опыт остальных, неавраамических религий.
Однако в настоящее время культура становится общечеловеческой. И без Востока не обойтись, хотя бы потому, что это пока не освоенный нами мир. Но только в соединении возможно поступательное движение в будущем.
Сейчас происходит инфляция слов. К сожалению, это относится к очень часто употребляемому слову «духовность». Все говорят о духовности. Это слово уже навязло в зубах и вызывает раздражение. К тому же распространено представление, что между духовностью и религией надо ставить знак равенства. Мне представляется это большой ошибкой, то есть, безусловно, религия бездуховной не может быть по определению. И, возможно, это звучит несколько парадоксально, но я бы сказал так: религия — это первый этаж духовности, первый этаж здания; когда вам еще нужны определенные правила, вам нужна организация. На самом деле человек духовно свободен. Духовная свобода выше любой религии, она включает в себя все религии, а также и нерелигиозное мировоззрение. Она включает в себя и науку. Поэтому существует некий уровень, на котором нет противоречий между религией и наукой. Перемены начались в XX веке, в частности, с выходом человека в космос. Сразу вспомнились многие ученые-мистики, то есть люди, задумывавшиеся над проблемами космоса и Земли, человека и космоса. И не только потому, что в космос слетал Гагарин, а Армстронг высадился на Луне, но и потому, что сжалась планета, и мы поняли, что все мы летим на маленьком космическом корабле по имени Земля, и потому, что мы его можем уничтожить. Здесь и возникает необходимость сочетания всех сознаний, которые необходимы человеку XXI века, в частности, необходимость создания планетарного сознания — понимания себя как взаимодействующей частицы космоса. Это может выражаться в любой из существующих религий, даже примитивных, когда молятся черному камню или восходящему солнцу.
Идея Бога не может быть навязана извне, а должна быть воспринимаема традиционно. Люди, рожденные в определенных традициях, должны наследовать религию предков, хотя сейчас наблюдается несколько другое явление. Есть масса новых религий: например, в Японии после войны появилось двести тысяч религий. Основные из них, синтоизм и буддизм, с общим числом исповедующих, превышающим число живущих в Японии людей. Конечно, европейцам это понять сложно. Некоторые японцы официально пребывают как бы в двух верах. В обычной жизни они синтоисты, а как начинаются какие-то неприятности, например, кто-то умрет, то все обряды совершаются но буддийским правилам. Поэтому один и тот же человек оказывается в двух религиях. И, тем не менее, двести тысяч религий, не людей, которые их исповедуют, а религий — это чрезвычайно интересный феномен, которым необходимо всерьез заниматься, тем более что это явление всемирное.
Я уже говорил, что конец XIX века — это определенное становление «постхристианской» эпохи. Сейчас уже внуки и правнуки тех людей, с которых начиналась эта эпоха, гораздо дальше ушли от христианства и гораздо меньше его знают. Но, даже поменяв свою жизнь и поехав в восточные страны, они остались чуждыми культуре этих стран.
Новые религии вполне естественно ортодоксальными христианами воспринимаются, как правило, в штыки. Это явление нельзя зачеркнуть, так как происходит проникновение Востока на Запад. Только такое проникновение не несет в себе перспективного начала, ибо человек так или иначе выходит из обычных рамок, теряет связь с традициями предков и становится членом аморфного расширительного религиозного сообщества, и вместо свободы духа приобретает членство в некой новой организации, далекой от его собственных традиций, но по сути своей сектантской.
При этом появилась масса шарлатанов, обладающих «космическими знаниями». Я помню, мы проводили встречу с одной очень милой японской сектой. Наставник в ней — японец. Он все время имеет обыкновение в нужный момент оказываться в том месте, где решаются политические дела, и их благополучному разрешению, как он говорит, способствует его присутствие. Монахи секты — русские и украинцы. На встрече ко мне подошел совершенно замечательный человек, похожий на Сократа, как я его себе представляю, то есть не очень красивый, босой, в белом хитоне и с красной лентой на голове, с большой бородой. Он попросил разрешения выступить. Ну, почему бы и нет. Последовал рассказ, что он, мол, такой-то, каждый год отдыхает в доме творчества, и во время последнего отдыха к нему приходил Будда и просил передать послание нашему собранию. Народ насторожился. А он диким голосом заорал: «Говорит Будда!» Что было с монахами, вы не представляете. Их чуть не хватил инфаркт, но, как выяснилось, «Будда» говорил удивительно общие слова. Полная инфляция слова была на лицо. И вы знаете почему? Дело в том, что наряду с объединительной и расширительной тенденцией существует другая — тенденция приспособления, тенденция к созданию исключительности секты, своего учителя. Но, ни в одной из этих сект, думается, нет человека творческого. Людям, у которых этого не хватает в работе, семье или любви, лишенным радости, этот маленький коллектив позволяет противопоставить себя чуть ли не всему остальному человечеству; они с вожделением ждут своего учителя, хотя выход, конечно, совершенно в другом. У этих сект свои законы, законы возникновения, развития, деградации. Но если мы всмотримся внимательнее, то заметим, что и другие организации похожи на них. Скажем, когда речь идет о едином правильном пути, некоем едином писании, едином учителе, — разве это не напоминает нам коммунистическую партию Советского Союза или русскую Православную церковь в недавнем прошлом, когда не было открытости и инакомыслия в собственной среде, когда рождалась нетерпимость? Рождение нетерпимости и есть то, что происходит в любой секте, организации, партии. Оно приводит к тому, что не Истина становится главной и не верность этой истине, а верность организации, учителю. Как я понимаю слово «учитель»? Великая истина заключена в известной фразе: учитель — не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Учитель — не громоотвод, который отводит, а тот, кто притягивает. Поэтому то, что в религии называется Богом, то, что в духовности вообще называется Богом, Природой, я называю Космосом. Это и есть истина. В свое время Ганди сказал, что Бог — это истина. Но потом настал момент, когда он заявил, что ошибался. Не Бог есть истина, а истина есть Бог — и это величайшее открытие. Только, кажется, что это простая замена, нет, это разное мировосприятие, а уж у истины могут быть свои имена, обряды, общества и поклонники. Помните — истина в основе. Что же такое истина? Это то, что вы поднимаетесь на уровень космического сознания, которое следует определенным космическим законам.
У нас очень любят говорить о прогрессе, в том числе и о прогрессе духовном. Такое примитивное представление! Как начали 2000 лет назад, так и идут по пути духовного прогресса. Но разве мы духовно выше тех, кто жил 2000 лет назад или еще раньше? На самом деле, никакого духовного прогресса нет, но есть явление Учителя на Землю. И Учитель силой своего интеллекта, но чаще всего своей интуицией или прозрением (прозрение — присутствует во всех религиях) познает космическую истину. Облекая истину в слова, тем самым ее первый раз искажает. Ибо она в принципе не переводима на язык человеческий. Он сообщает ее первым ученикам, а они, несут дальше, невольно искажая. Далее создается вокруг этой истины определенная организация, и тут уже начинается все расширяющееся искажение. Затем приходит новый Учитель, может быть, на другом конце Земли. И снова повторяется то же самое. Происходит прорыв человеческой мысли в космическую истину и потом ее заземление. На этом-то заземлении и существуют духовные организации, хотя образуются они не ради этого. Это совершенно объективно. Учитель — явление особенное. И мне очень интересна логика русского языка. У нас Христос — Учитель, и Мария Ивановна из второго «Б» — тоже учитель. То же самое со словом Творец. Творец — это некий демиург, который создает мир, и это мастер, который делает табуретку. Он тоже творец, что уж говорить о кандидате каких-нибудь наук! Это соотнесение высшего и, в общем-то, довольно обыденного представляется мне чрезвычайно важным. Что такое Учитель? Учитель — человек, несущий открывшуюся ему мысль. Что такое учитель с маленькой буквы? Это человек, передающий истину будущим поколениям. И тот и другой несут ее потомкам.
Сейчас, как я понимаю, нет важнее задачи, чем направить на верный путь именно юное поколение, которое должно жить духовно. Какова же будет духовность? Чему ей соответствовать? Она должна звать к единству, объединять все человечество, учить, пожалуй, трем ступеням сознания, и первую я назвал бы патриотической, если бы опять это слово за последние годы не было так затаскано. Только нельзя останавливаться. Надо идти дальше — к глобальному, а затем и планетарному сознанию. При этом законы жизни на земле должны соответствовать космическим, которые очень просты. И как только человек начинает идти против них, его самого, семью, нацию, империю и человечество в целом ждет регресс и возможность уничтожения. Как ни назови законы — божескими или природными, но человек не может идти против этических норм безнаказанно. Погибли все империи, которые шли против нравственных норм. Какой путь здесь видится, путь как руководство? Конечно, это великие заповеди, если мы говорим о христианстве. Только надо понимать, что эти же заповеди присутствуют и во всех других религиях, что нет религий истинных и неистинных, правильных и неправильных. Они все правильны и все чем-то неправильны, ибо это первый этаж. В основе прохождения духовного пути лежит творчество. Именно творчество есть путь, и без него жизнь начинает угасать. Причем, я надеюсь, всем понятно, что любовь — это тоже творчество. Работа и воспитание детей — сложнейшие задачи, которые выпадают на долю каждого, — тоже творчество, развивающее человечество. Соответствие божественным космическим законам ведет эволюцию от грубо материального к высоко духовному.
Если говорить не о духовных поисках, не об изучении религий, а о том, что нам предстоит, то, видимо, необходимо проникнуться новой, совершенно другой философией. Мне нравится читать в журналах, что идет эра Водолея, что Россия покажет всему миру, на что она способна, но пока я не вижу оснований для такого оптимизма. Нам, кстати, надо очень многое преодолеть в самих себе, прежде всего, ставший генетическим страх, сидящий в каждом из нас — сталинское время прошло недаром. И если вы думаете, что к этому времени возврата нет, то мне представляется — оно может вернуться мгновенно, поэтому необходимо воспитать внутри себя противоядие. Второй наш огромный грех — нетерпимость, третий — необразованность, мы не знаем того, что можем и должны знать. Люди не любопытны, мягко говоря. Поэтому нам нужна совершенно новая наука, иное религиоведение, ищущее единство во всем. Таким же должно быть искусствоведение и, конечно, история, которую мы бы рассматривали под морально-этическим углом, чтобы понять, что и как в ней происходило. Все это станет составной частью культуры XXI века. Обязательна определённая надконфессиональность. Человек должен уходить корнями в свои традиции, рассматривать их с более высокой точки и понимать, что всё это как бы ступени внутри храма, а на крыше — огромное небо со звездами, там нет изображения Христа или Будды. И не важно, через какие двери вы вышли на эту крышу — там уже единое космическое небо. Вспомним не раз цитированное послание Индии ко всему миру. Оно всего в трех словах, но очень емких, если в них вдуматься. Это — единство в многообразии. Сохраняя многообразие, мы должны осознать единство. Мы, европейцы, все видим дуально попарно: черное и белое, он и она, правильно и неправильно, добро и зло. Такой подход не то чтобы не правильный, он примитивный. Выше дуальности — понимание, что существует и добро и зло, и да и нет.
 Рис. 3. Свами Вивекананда [3] . Лондон 1896 г. «Сва́ми Вивекана́нда (бенг. স্বামী বিবেকানন্দ, хинди स्वामी विवेकानन्द; имя при рождении — Нарендрана́тх Да́тта; 12 января 1863, Калькутта, Бенгалия—4 июля 1902, Белурский монастырь вблизи Калькутты) — индийский философ и общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Ордена Рамакришны (Рамакришна Матх) и Миссии Рамакришны». (Прим. ред.)
Рис. 3. Свами Вивекананда [3] . Лондон 1896 г. «Сва́ми Вивекана́нда (бенг. স্বামী বিবেকানন্দ, хинди स्वामी विवेकानन्द; имя при рождении — Нарендрана́тх Да́тта; 12 января 1863, Калькутта, Бенгалия—4 июля 1902, Белурский монастырь вблизи Калькутты) — индийский философ и общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Ордена Рамакришны (Рамакришна Матх) и Миссии Рамакришны». (Прим. ред.)
Как же практически достигнуть духовности? Я думаю, надо взять на вооружение то, чему учат нас все духовные Учителя человечества, — этический подход, подразумевающий морально-этическую оценку каждого своего шага, терпимость и понимание того, что все мы связаны друг с другом, как бы капли одного океана. И важнейшая из наших задач — служение человеку. Великий индийский просветитель, религиозный деятель Свами Вивекананда сказал прекрасные слова: «Если вы хотите найти Бога — служите человеку». Мне очень нравится ещё одно высказывание Вивекананды: «В будущем столетии Россия в духовном отношении поведет за собой мир, но путь к нему укажет Индия».
И последнее — это конечно, самосовершенствование человека во имя общества, а общества во имя человека. Выйти же по ступеням на планетарное сознание — первейшая наша задача. И далее — на космическое, где мы, дети не Москвы и не Сокольников, не папы с мамой, а, как и вся наша земля, дети и частицы космоса, и от нас зависит, будем ли мы и наши потомки жить хорошо или разрушим свой дом, и Земля прекратит свой полет в Космосе.
— Конец выступления Ростислава Борисовича Рыбакова —
 Рис. 4. Институт Искусства в Чикаго, где заседал Всемирный Парламент Религий. «Вивекананда выступил в 1893 году на Всемирном парламенте религий в Чикаго, где ему устроили овацию в начале его речи, когда он обратился ко всем со словами: «Сёстры и братья Америки». Прибытие Вивекананды в США многие считают отправной точкой в начале интереса к индуизму на Западе.[1] В течение нескольких лет после Парламента он основал центры веданты в Нью-Йорке и Лондоне, читал лекции в основных университетах и всюду, куда бы он ни приезжал, разжигал интерес Запада к индуизму. Его успех не обошёлся без конфликтов, большинство из которых были связаны с христианскими миссионерами, к которым у него было жёстко критическое отношение. После четырёх лет постоянных турне, чтения лекций и ретритов на Западе он вернулся в Индию в 1897 году. Его поклонники заявляют, что он был ошеломлён приемом, который он получил по своему возвращению. В Индии он прочитал серию лекций, и считается что этот цикл лекций, известный как «Лекции от Коломбо до Алморы», поднял моральное состояние подавленного в то время индийского общества. В 1897 году он основал Миссию Рамакришны. Эта организация теперь одна из самых больших монашеских орденов индуистского сообщества в Индии и ныне пользуется особым авторитетом и уважением среди многочисленных религиозно-общественных и благотворительных организаций». (Прим. ред.)
Рис. 4. Институт Искусства в Чикаго, где заседал Всемирный Парламент Религий. «Вивекананда выступил в 1893 году на Всемирном парламенте религий в Чикаго, где ему устроили овацию в начале его речи, когда он обратился ко всем со словами: «Сёстры и братья Америки». Прибытие Вивекананды в США многие считают отправной точкой в начале интереса к индуизму на Западе.[1] В течение нескольких лет после Парламента он основал центры веданты в Нью-Йорке и Лондоне, читал лекции в основных университетах и всюду, куда бы он ни приезжал, разжигал интерес Запада к индуизму. Его успех не обошёлся без конфликтов, большинство из которых были связаны с христианскими миссионерами, к которым у него было жёстко критическое отношение. После четырёх лет постоянных турне, чтения лекций и ретритов на Западе он вернулся в Индию в 1897 году. Его поклонники заявляют, что он был ошеломлён приемом, который он получил по своему возвращению. В Индии он прочитал серию лекций, и считается что этот цикл лекций, известный как «Лекции от Коломбо до Алморы», поднял моральное состояние подавленного в то время индийского общества. В 1897 году он основал Миссию Рамакришны. Эта организация теперь одна из самых больших монашеских орденов индуистского сообщества в Индии и ныне пользуется особым авторитетом и уважением среди многочисленных религиозно-общественных и благотворительных организаций». (Прим. ред.)
Статьи Рыбакова Р.Б.
23 Сен 2011 г.
Все мы устали от употребляемых всуе высоких слов. И потому, верно, их уже не воспринимаем. Как не воспринимаем и известий о создании новых обществ, ассоциаций и движений. Слишком много их развелось! И потому первая реакция на формирующееся сейчас в… Читать далее >>
01 Ноября 2011 г.
А начать я хочу с одной малоизвестной истории, которую недавно раскопала пытливая исследовательница Мария Луиза Бурке; с ней мне посчастливилось встретиться года два назад в штаб-квартире Миссии Рамакришны Белур Матхе недалеко от Калькутты. Прямого… Читать далее >>
Интернет — Журнал «Дельфис» — публикации — Педагогика будущего. (Прим. ред.)
В заключение приведем слова из выступления Рыбакова Р.Б.: «… и от нас зависит, будем ли мы и наши потомки жить хорошо или разрушим свой дом, и Земля прекратит свой полет в Космосе». Мы также полагаем, что «связующей нитью» для «нового Религиоведения», о котором говорил Рыбаков Р.Б., могут стать древние знания о «Матрице Мироздания» как о сакральном базисе всех, известных нам Религий.
Более детальную информацию о матрице Мироздания можно получить, познакомившись со статьями на сайте в разделе «Египтология» – Тайные знания египетских жрецов о матрице Мироздания. Часть первая. Пифагор, Тетрактис и бог Птах и Тайные знания египетских жрецов о матрице Мироздания. Часть вторая. Номы Египта.
©Арушанов Сергей Зармаилович. Оформление и редактирование. 2012 г.
[1] Оригинал или Источник текста выступления Рыбакова Р.Б. – Адрес ссылки в Интернете — http://www.delphis.ru/journal/article/dukhovnye-ucheniya-na-rubezhe-vekov
[2] Махатма Ганди – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
[3] Вивекананда – свободная энциклопедия Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%E2%E5%EA%E0%ED%E0%ED%E4%E0
 Немного о Флоровском Георгии Васильевиче. Материал из Википедии — свободной энциклопедии: «Гео́ргий Васи́льевич Флоро́вский [1] (28 августа (9 сентября) 1893, Елисаветград, Российская империя — 11 августа 1979, Принстон, США) — православный священник русского происхождения, протоиерей; религиозный мыслитель, богослов, философ и историк; деятель экуменического движения и один из основателей Всемирного совета церквей. Родился 28 августа (9 сентября) 1893 в Елисаветграде, в семье православного священника. В 1894 году семья переехала в Одессу, где родитель получил место настоятеля кафедрального собора и ректора Одесской семинарии. Ещё будучи школьником, он изучает английский, немецкий, французский, латынь, греческий и иврит. В 1916 году окончил историко-филологический факультет Императорского Новороссийского университета, где изучал также историю философии и естествознание. Будучи студентом, он, как многие его современники, в годы войны и революции искал осмысления реальности на путях философии. «Прошлая судьба русского богословия была для меня всегда историей творимой современности, в которой нужно было найти самого себя» [1] — напишет он уже много позже в предисловии к своим «Путям русского богословия».
Немного о Флоровском Георгии Васильевиче. Материал из Википедии — свободной энциклопедии: «Гео́ргий Васи́льевич Флоро́вский [1] (28 августа (9 сентября) 1893, Елисаветград, Российская империя — 11 августа 1979, Принстон, США) — православный священник русского происхождения, протоиерей; религиозный мыслитель, богослов, философ и историк; деятель экуменического движения и один из основателей Всемирного совета церквей. Родился 28 августа (9 сентября) 1893 в Елисаветграде, в семье православного священника. В 1894 году семья переехала в Одессу, где родитель получил место настоятеля кафедрального собора и ректора Одесской семинарии. Ещё будучи школьником, он изучает английский, немецкий, французский, латынь, греческий и иврит. В 1916 году окончил историко-филологический факультет Императорского Новороссийского университета, где изучал также историю философии и естествознание. Будучи студентом, он, как многие его современники, в годы войны и революции искал осмысления реальности на путях философии. «Прошлая судьба русского богословия была для меня всегда историей творимой современности, в которой нужно было найти самого себя» [1] — напишет он уже много позже в предисловии к своим «Путям русского богословия».
 Рис. 1. Гео́ргий Васи́льевич Флоро́вский
Рис. 1. Гео́ргий Васи́льевич Флоро́вский
Эмиграция, годы в Праге
В 1920 году Флоровский был утверждён в звании приват-доцента, но тогда же эмигрировал, вначале в Болгарию, а затем — в Прагу, где в те годы нашли приют многие представители русской интеллигенции. В 1922 году в Праге женился на Ксении Ивановне Симоновой. С того же года преподавал на Русском юридическом факультете Карлова университета и в Высшем коммерческом институте, где читал курс истории русской литературы. В 1923 году Георгий Васильевич защищает магистерскую диссертацию по теме «Историческая философия Герцена». В Праге Флоровский состоял в «Братстве святой Софии», основанном прот. Сергием Булгаковым, с которым он впоследствии радикально разойдётся во взглядах. Там же он, наряду с Н. С. Трубецким, П. Н. Савицким, П. П. Сувчинским и др., становится одним из основателей евразийского движения и участвует в сборнике-манифесте «Исход к Востоку» (1921). Впрочем, его связь с этим учением продлится недолго: он примет участие ещё в двух евразийских сборниках («На путях», Берлин, 1922; «Россия и латинство», Берлин, 1923[2]), после чего, войдя в идейный конфликт с лидерами движения, окончательно порвёт с ним после публикации в 1928 году его статьи «Евразийский соблазн». В 1923 году принимает участие в работе первого организационного съезда Русского студенческого христианского движения (РСХД) в мест. Пшеров (Чехословакия).
В 1920-е годы устанавливается также дружба Флоровского с Н. А. Бердяевым, которая, однако, впоследствии несколько охладится в связи с неприятием Флоровским философии Бердяева и её решительного осуждения им в «Путях».
Жизнь и деятельность в Париже
В 1926 году Флоровский переезжает в Париж, приняв приглашение на кафедру патрологии в только что открывшемся там Богословском институте. Таким образом, в то время Георгий Васильевич уже приобрел широкую известность как патролог, не имея при этом специального богословского образования, — он был в этой области блестящим самоучкой. В преподавательский состав Института вошли как профессора дореволюционной духовной школы (А. В. Карташев, еп. Вениамин (Федченков)), так и видные представители «вернувшейся в Церковь» интеллигенции (о. С. Булгаков, В. В. Зеньковский и др.). Среди них Флоровский занял особое место: он был солидарен с коллегами в стремлении к оживлению православного богословия и к участию в экуменических встречах с инославными, но всегда находился в оппозиции к доминировавшему тогда религиозно-философскому движению, связанному с «софиологией» Владимира Соловьёва. В Париже состоял в обществе «Икона».
В 1932 (или 1931) Флоровский был рукоположен во священника митрополитом Евлогием (Георгиевским), Патриаршим Экзархом Западной Европы (Вселенский Патриархат).
Годы преподавания в Париже оказались самыми плодотворными в жизни о. Георгия: именно тогда он опубликовал две книги об отцах («Восточные отцы IV века» и «Византийские отцы V-VIII вв.») и «Пути русского богословия». Для того, чтобы всецело понять смысл его литературного творчества в эти годы, можно вспомнить одно из наиболее частых замечаний о. Георгия на его лекциях по патрологии: «Отцы Церкви, — говорил он, — чаще всего богословствовали для опровержения еретиков. Отправляясь от „неверного“ выражения христианского благовестия, они находили „верные“ слова, при этом не „создавая“ Истину, — которая и является Истиной только в силу своей божественности, — а выражая и объясняя её». В таком подходе состоит основной психологический метод Флоровского в его критике русской культуры. Консервативный подход к богословию у о. Георгия был, однако, совершенно чужд всякого мракобесия. Будучи историком, он всегда отвергал тупое поклонение прошлому как таковому. Его основной заботой было не идолопоклонство прошлого, а проблемы настоящего. Психологическим импульсом, вдохновлявшим Флоровского при написании его книг, было отвержение так называемой «софиологии» во всех её видах, особенно в трудах её главных представителей, В. С. Соловьёва, С. Н. Булгакова и о. Павла Флоренского. Русская софиология представлялась ему разновидностью немецкого идеализма, своеобразным гностицизмом и вообще незаконным использованием философии для выражения христианских догматов. По-видимому, Флоровский и начал заниматься св. отцами именно потому, что «софиологи» пытались представить свою мысль традиционной, а своё пользование философией — освящённым примером отцов. Для Флоровского же основной смысл занятий патристикой заключался в том, чтобы найти верный ключ к соотношению между светской философией и богословием. Этот ключ, с его точки зрения, был неверно определён софиологами, но может быть найден в примере греческих отцов, то есть в христианском эллинизме, отказавшемся от чуждых христианству начал, осудившем своего же родоначальника Оригена и сумевшем преобразиться изнутри, стать воистину христианским. «Отеческая письменность, — писал о. Георгий, — есть не только неприкосновенная сокровищница предания… Отеческие творения являются для нас источником творческого вдохновения, примером христианского мужества и мудрости… (путём) к новому христианскому синтезу, о котором томится и взыскует современная эпоха. Настал срок воцерковить свой разум и воскресить для себя священные и благодатные основы церковной мысли»[3].
Жизнь и деятельность в США
Летом 1939 года, вскоре после окончания работы над «Путями», о. Георгий Флоровский был в Белграде, где его застало начало войны. Склад издательства был сожжён немецкими бомбами, и книга стала библиографической редкостью. Проведя в Югославии годы войны, о. Георгий позднее (в 1944 году) оказался в Праге у брата, но в конце концов ему удалось вернуться в Париж (1945). Поскольку кафедра патрологии была занята (архимандритом Киприаном (Керном)), он преподавал нравственное богословие, а в 1948 году, по приглашению митрополита Американского Феофила, переехал в Нью-Йорк, где стал профессором, а затем и деканом Свято-Владимирской духовной семинарии.
В своём предисловии к третьему изданию «Путей русского богословия» выдающийся церковный деятель русского зарубежья прот. Иоанн Мейендорф пишет об этом периоде его жизни следующее: «Сразу убедившись в том, что Православие в Америке уже давно стало „американским“, то есть соответствующим американским академическим нормам и требующим системы духовного образования на английском языке, о. Георгий — несмотря на всю свою „русскость“ и укоренённость в русской среде — ревностно и успешно принялся за преобразование школы, которое и было в значительной мере достигнуто в течение его пребывания её главой (1948—1955)»[4]. Вместе с тем Флоровский, как признанный и авторитетный православный богослов, принял активное участие в университетской жизни Америки читая лекция и печатая статьи. Однако крупных исследований он больше не писал. В экуменическом движении его признавали почти единоличным и самодостаточным голосом Православия. В этом качестве он, будучи членом исполнительного комитета вновь организованного Всемирного совета церквей, стал одним из основных его создателей.
Признанным авторитетом о. Георгий стал не только в церковных и экуменических кругах. Слависты и историки России, знакомые с «Путями», признали его исторические заслуги и исключительную эрудицию. С 1956 по 1964 год Флоровский — профессор церковной истории в Гарвардском университете. В 1954 году избран президентом Национального совета церквей в США. В 1964 году вышел на пенсию и переехал в Принстон, где работал приглашённым профессором на кафедре славистики и богословия местного университета.
Скончался о. Георгий в Принстоне 11 августа 1979 года. Его отпевание было совершено в церкви св. князя Владимира в Трентоне, где он часто служил, при участии многочисленных коллег и учеников».
Последовательные попытки анализа социокультурных истоков и основ развития и прогресса философско-мировоззренческого знания были предприняты Г.В. Флоровским в его концепции неопатристического синтеза, получившей методологическую конкретизацию при исследовании проблем истории русской философской культуры в работе «Пути русского богословия» (1937). Особое место в исследовании социокультурных обстоятельств формирования русского философского мировоззрения занимает проблематика состояний общественного сознания, которые Флоровский обобщил в категории «философское пробуждение». Процесс философского пробуждения, по его мысли, выразительно описывал Гегель. В сомнении и муках выходит сознание из безразличного покоя непосредственной жизни, из «субстанциального образа существования», поднимается над житейской суетой, и мир оказывается для него мыслительной загадкой или вопросом.
Эпоха философствования возникает для народа в определенное время. Такому пробуждению всегда предшествует сложная историческая судьба народа, длительный социальный опыт национального бытия. Философская жизнь начинается в истории как новый модус, или новая ступень национального существования общества. Это пробуждение философской мысли, ее рождение возникает, по мнению Г.В. Флоровского, из духовного преодоления противоречия «внутреннего стремления» с «внешней действительностью», которое переживало русское культурное сознание на рубеже 20-х и 30-х годов Х1Х века. Русскими мыслителями в эту эпоху фиксируется напряженность нравственной жизни общества, распространяющейся в нем подобно эпидемии, и необходимость ее рефлексии в обстоятельствах психологического дискомфорта, того, что современные исследователи называют поиском идентичности и определению личностной жизненной позиции.
Нравственно-волевое раздвоение личности, описанное М.Ю. Лермонтовым, было обычным для рефлексирующих интеллектуалов, пытливых умов, переживающих настроения, близкие к отчаянию и разочарованию в существующих общественных устоях и культурных традициях, ценностях и нормах. Критический мотив сознания и стремление «выйти из настоящего» привело к философскому самоопределению мыслящих личностей. Интеллектуалы этого поколения искали и находили выход из этого состояния культурного сознания в историческом прошлом или в будущем. Одни готовы были отступать назад, из «культуры» к «природе», в первобытную цельность, в патриархальное и непосредственное прошлое, когда, казалось, жизнь была более искренней и героической, и получило в русском романтизме наименование «святое прежде» ( В.А. Жуковский). Флоровский отмечает, что пастораль и «экзотическая мечта» были характерны в эту эпоху и для духовной жизни Запада. Другие мыслители и публицисты обращались к будущему, которое с необходимостью предполагалось светлым и одухотворенным. П.В. Анненков писал, что утопизм может считаться верной сигнатурой эпохи. Философский пафос становится преобладающим в утопических грезах «замечательного десятилетия», эпохи 1838-1848 гг.
Г.В. Флоровский подчеркивает, что психологический анализ не исчерпывает опыт тех лет. Недостаточно объяснить беспокойство умов кризисными социально-политическими обстоятельствами эпохи. Еще менее удовлетворяет ссылка на подражание западной романтической моде, интеллектуальной позе. В русских духовно-мировоззренческих исканиях было слишком много подлинной и искренней боли и страстности, вызванных глубинными изменениями национального бытия. Впечатления от западной культуры вызывали творческий отклик. Возникла необходимая для духа анархия ( Г.Г. Шпет). Это была эпоха, впервые сознательно на себя взглянувшая (Ф.М. Достоевский). Повседневные вопросы и тайны повседневной жизни стремительно «сгущаются» в философскую проблематику. Философская рефлексия становится неодолимой социальной страстью, магическим притяжением для деятелей культуры. В 30-е годы начинается «великий ледоход» русской мысли (М.О. Гершензон). И. Киреевский уже в 1830 г. писал, что отечественная философия, необходимая обществу, должна развиваться из актуальных вопросов, господствующих настроений национального и «частного» бытия. Национальное самосознание и личностное самосознание превращаются в исходные принципы, установки и факторы развития философского знания, принимающего формы экзистенциального философствования, рефлексии романтизма как особого направления культурного процесса.
Флоровский обосновывал мнение, что если в предыдущем поколении «культурно-психологическим магнитом» была поэзия, то в 30-е и 40-е годы Х1Х века ей на смену приходит самостоятельная и оригинальная философская мысль. Из поэтического фазиса русское культурно-творческое сознание переходит в фазис философский. Вместе с тем Киреевский отмечал, что уже при рождении русской литературы мыслящие люди в самой поэзии искали преимущественно философии.
Русская философская мысль как оригинальное явление культуры рождается из «историософического изумления», почти испуга, в болезненном процессе национально-исторического «самонахождения» и раздумья. Рождается или пробуждается русское философское сознание, и начинает философствовать новый человек. Происходит становление нового субъекта философского творчества. Русская мысль пробудилась под влиянием немецкого идеализма. Но не следует, по мнению Г.В. Флоровского, преувеличивать значение «рецепции немецкого идеализма» в творческом становлении и развитии русского философствования. Скорее можно говорить о мировоззренческом восприятии творческого диалектического духа, или, по выражению русского философа, «симпатическом заражении», как социально-психологическом следствии взаимодействия и синхронизации культурных процессов и их субъективной рефлексии. Психологическая детерминация развития философского знания интерпретируется в социокультурном контексте. Флоровский ссылается на В. Одоевского, который писал, что Шеллинг открыл человеку неизвестную, прежде наполненную сказочными преданиями часть его мира, — душу.
Пробуждение мысли рассматривается как духовная прививка, надолго оплодотворившая все русское культурное творчество. Это было философское воспитание духа. Следствием этого была тончайшая «пронизанность» почти всей русской литературы и искусства философской проблематикой и беспокойством о человеческом духе. Тогда настала эпоха романтизма в русской культуре, и романтизма не только в литературе. Еще в большей степени это было время романтизма в жизни. Речь идет, однако, о жизни пробудившегося творческого меньшинства. Ключ к истории идей всегда лежит в истории чувства (М.О. Гершензон).
По мысли Г.В. Флоровского, в духовно-мировоззренческих исканиях романтических поколений были очень сильны религиозные чувства. «Замечательные десятилетия» были временем не одних только идеологических споров. Это была эпоха развития религиозности, которой была привержена большая часть интеллигенции. В религиозных чувствах романтика и «идеализм» открываются в своей двойственности и двусмысленности. В 30-е годы западники были заняты религиозно-нравственной проблематикой не меньше славянофилов. Это был поиск целостного мировоззрения. Философский подъем 30-х и 40-х годов имел двоякий исход. Для одних открывался путь в Церковь, путь религиозного восстановления, — религиозный апокастазис мысли и воли. Для других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество. Этот раскол, или поляризация русской культурной элиты происходил именно на религиозном уровне. Такая же поляризация наблюдается в истории немецкого идеализма: Шлегель, Геррес и Баадер, с одной стороны, Фейербах и «гегельянская левая» — с другой. Это не просто сопоставление, подчеркивает русский философ. Здесь есть прямая связь, зависимость и влияние. «Гегелевская школа» разделилась на религиозной проблематике.
Русское общество и культурная элита разделились в 40-е годы в спорах о России, о русском национальном самосознании, имеющих социокультурный смысл и повлиявших на все идеологические процессы. В историософских разногласиях проявились глубинные противоречия национального бытия.
Задумываться о русской судьбе или историческом призвании России и русского народа в эту эпоху было достаточно мотивов и поводов. Россия и Европа — общая тема «действующей» истории в 20-е-30-е годы Х1Х в. Исторические исследования, воспринимаемы как героические повести или эпопеи заставили общественность почувствовать реальность русского прошлого. Г.В. Флоровский, предпринимая попытки определить социокультурное единство внешних, инспирированных конкретными историческими обстоятельствами, и внутренних, т.е. личностных и психологических, детерминант становления и развития философского знания, отмечает, что тему национального призвания или предназначения подсказывал и романтизм, который может рассматриваться как самостоятельное направление в культуре.
Возник вопрос о месте России как цивилизации в общем плане или схеме «всемирной истории». Историософия русской судьбы как социокультурного феномена становится, после военных и -не-военных встреч с Европой, основной темой пробуждающейся русской философской мысли. В этом историософском плане вновь с полной отчетливостью встает в русском «культурно-общественном», по терминологии Флоровского, сознании религиозный вопрос. В опыте и раздумье все очевиднее становится русское историческое своеобразие, определенная историческая противопоставленность России и «Европы». Это различие, по мнению русского мыслителя, было осознано как различие в религиозной судьбе. Именно так был поставлен вопрос в роковом для истории духовной жизни русского общества «Философическом письме» Чаадаева в 1836 году. П.Я. Чаадаев в спорах по проблемам идеалистической философии стоит обособленно. Его мировоззрение сложилось под влиянием французского «традиционализма», критически оценивающего духовный и практический опыт Французской революции 1789-1794 гг. Это, прежде всего, влияние Л. Бональда с его философско-социологической критикой Просвещения, и, отчасти, Ж. де Местра, неокатолицизма. Позднее Чаадаев испытал влияние Шеллинга и мистиков. Его мировоззрение Флоровский оценивает как религиозное западничество. Общим направлением русского западничества, к которому традиционно относятся воззрения Чаадаева, Флоровский считает атеизм, «реализм» и позитивизм. Но образ П.Я. Чаадаева остается для русского религиозного мыслителя, неясным, хотя и, в определенной мере, эпохальным. Самым неясным для истории русской общественной мысли и ее движущих сил остается именно религиозность, во многом парадоксальная, «первого западника». Г.В. Флоровский отмечает, что у апологета римской теократии в мировоззрении меньше всего именно церковности, по крайней мере, в духе французского клерикализма. П.Я. Чаадаев «идеолог», а не церковник. Отсюда следуют «прозрачность» его историософских схем, и трансформация христианской теологии в новую идею об изменяющемся мире. По мнению русского исследователя, в мировоззрении Чаадаева просматривается принцип, но не система. И этот принцип есть постулат христианской философии истории. История интерпретируется как созидание в мире «Царствия Божия». Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю. Исторический горизонт П.Я. Чаадаева замыкается Западной Европой, поскольку отмечается его мнение, что ничего из происходившего в Европе не достигло России. В исторической обособленности России «первый западник» видел роковое несчастье. Он не отождествлял культурной обособленности России с первобытностью, а утверждал «не-историчность» русской судьбы. Ему открывается двусмысленность великого русского прошлого, «роковое давление времен». Свобода от западной истории способна дать русскому народу несравнимое преимущество в созидании будущего. Это, прежде всего, духовное, мировоззренческое и культурное преимущество, инспирированное драматической и противоречивой историей православного христианского народа, и проявляющееся в возможности созерцать и судить мир со «всей высоты мысли», свободной от необузданных, в сущности, разрушительных страстей и корыстолюбивых устремлений.
В России видится народ божий будущих времен. Кажется, что в истории Царства Божьего начинается новая эпоха. «Христианство политическое» должно уступить место христианству «чисто духовному». Начинается эпоха социального христианства. В новой оценке русской не-историчности, с необходимостью повлиявшей на интерпретации истории не только русской, но и европейской мысли, П.Я. Чаадаев сходится с русскими любомудрами, и, прежде всего, с В.Ф. Одоевским. Г.В. Флоровский ссылается на А.И. Герцена, разделяя представления, что в диалектике русского религиозно-исторического самосознания мысль Чаадаева имеет оригинальный конкретный смысл, хотя у него и не было самостоятельных теологических идей и воззрений. С конца 30-х годов он примыкал к спорам младшего поколения русских мыслителей. Он многое вносит в эти споры, в постановку или развитие теоретических вопросов. Это было скорее личное влияние, чем влияние определенной системы идей, характеризующее, в современной терминологии, то, что может быть обозначено как личностный, но имеющий социокультурный смысл, внешний фактор историко-философского процесса. «Младшее поколение» мыслящей русской интеллигенции, которое может быть охарактеризовано как культурная общность, пережило необходимую дифференциацию под влиянием множества факторов, которые не могут быть сведены ни к традиционно понимаемым социокультурным, ни к психологическим и личностным детерминантам развития знания. «Раскол» может интерпретироваться как универсальная историческая характеристика движущих сил культурных процессов, протекающих в русской истории.
«Славянофильство» и «западничество» не могут рассматриваться как четкие и точные, по крайней мере, в историко-философском смысле, идейные характеристики с позиций конкретного исследования истории русской культуры и ее многообразной рефлексии. Можно согласиться с мнением, что это не только и даже не столько две историко-политических идеологии, сколько два относительно целостных и несводимых друг к другу мировоззрения, или две «культурно-психологических установки» познающего мышления. Удачным представляется сведение расхождений западников и славянофилов к «разномыслию в понимании основного принципа — культуры» (П.Г. Виноградов). Западники, по мнению Виноградова, исходили из понятия культуры как сознательного творчества человечества. Такова постановка проблемы в Гегелевской философии права и общества. «Славянофилы» имели в виду народную культуру, которая почти бессознательно вырастает в народе. Эти представления развились под влиянием «исторической школы», отвергающей гегельянство. Этим противоречием не исчерпывается все содержание раскола 40-х годов, но его психологический, в определенном аспекте, смысл обозначен правильно. Западники выразили «критический», а славянофилы «органический» моменты культурно-исторического самоопределения русского философствования. Поэтому в теоретических схемах славянофильства не было в достаточной степени учтено созидающее и «движущее» значение «отрицания» (сравним противопоставление «диалектики» и «эволюции» в социальной философии эпохи). С этим, подчеркивает Виноградов, связано новое разномыслие, связанное с пониманием конечной реальности в историческом процессе («общество», т.е. «народ», или «государство»). Здесь традиционализм «исторической школы» неожиданно смыкается с социалистическим радикализмом (сравним аналогичную близость или родство «утопического социализма» с французской «теократической школой»).
В славянофильском мироощущении чувствуется своеобразный анархизм, проявляющийся в неприятии к предумышленному вмешательству в ход органических процессов, пафос «незаметных» и мельчайших изменений, слагающихся в непрерывности совокупного исторического движения. За этим стоит недоверие к отдельной или обособляющейся личности, индивидуализму. В этом плане характерен обмен мнениями между К.Д. Кавелиным и Ю.Ф. Самариным в статьях, посвященных проблематике личности в 1847 г. В культурном сознании тех поколений религия представлялась возвратом к цельности, «собиранием души», освобождением от того тягостного состояния внутренней разорванности и распада, которое стало страданием века. Подобный религиозный постулат обобщался и распространялся на всю историческую действительность.
Из кризиса, в который Европа была вовлечена в своей истории, выход представлялся только через такое «возвращение», новое скрепление общественных связей, восстановление цельности жизни. Это не был «археологический либерализм», здесь сказывалось непосредственное и живое чувство современности. В романтизме было много непосредственной исторической чуткости. После Революции в общественной жизни чувствовался распад, разобщение индивидуальностей, атомизация жизни, — чрезмерность «свободы», бесплодность «равенства», недостатки «братства». В этом отношении показательна критика современности у Сен-Симона, характерен «позитивный» пафос Конта, обращенный против «отрицаний» революции. Они отрицательно оценивают Реформацию как восстание замкнувшейся и обособившейся личности. Следует помнить, что Гегель, восторженно встретивший Французскую революцию, оценивал ее как форму Реформации. В этой сложной и противоречивой исторической обстановке воспитывалась новая чуткость к соборному бытию Церкви, пробуждалась и воспитывалась потребность и чуткость к церковности. Церковь воспринимается и осознается как единственная «органическая» сила среди критического разложения и распада всех связей, в эпоху самого острого культурно-исторического кризиса. На Западе по этим причинам многие интеллектуалы и мыслители возвращались к церкви в эпоху романтизма. Г.В. Флоровский отмечает, что в этом «органическом» самочувствии таится и роковая двусмысленность, которая оказывается постоянным источником внутренних колебаний и противоречивости всего романтического религиозного мироощущения. Верно, что Церковь есть «идеальное общество», и только в Церкви полностью разрешается взаимно непреодолимая иными средствами напряженность личных своеволий. Но этим «органическим» или социальным мотивом реальность Церкви не исчерпывается, и не он должен быть признан основным и первичным. Общественность и церковность при всем сходстве оказываются несоизмеримыми. В славянофильском мировоззрении эта несоизмеримость не была полностью воспринята и осознана. От непонимания этой проблемы пострадала не столько теология славянофилов, сколько их учение о Церкви, философия истории и общества. В социальной философии славянофилов Церковь заменена общиной. Вся религиозная активность вмещается в пределы общинного строя. «Церковь» замещается «Землей». В противопоставление «правительства и земства» входит содержание проблемы отношений Государства и Церкви. В схеме славянофилов «государство» и «земля» представляют собой условное обозначение «житейского делания и внутреннего совершенства». Земля в этой теоретической схеме интерпретируется как этическая категория. Это обусловлено, вероятно, на наш взгляд, и этикоцентристской тенденцией русского философствования, и традиционными представлениями об объективности нравственных ценностей, детерминирующих развитие философско-мировоззренческого знания, становление общекультурной картины мира, и понимание места человека в ней.
Флоровский подчеркивает, что в этико-философской доктрине славянофилов «земская» или «общественная» жизнь противопоставляется суете мирского «государствования» как «бывание» исторической общности людей «не от мира сего» («путь внутренней правды»). Община в этой философии есть не столько историческая, сколько сверх-историческая, или внеисторическая величина, — народный элемент идеального ино-бытия, пространство «иного мира», «не от мира сего», в котором возможно и необходимо искать убежища от политической суеты. С этим связана и противоречивость славянофильства в постановке философско-исторической проблемы. Славянофильство было задумано как философия истории, философия всеобщей христианской судьбы. Но весь пафос славянофильства в том, чтобы выйти из истории или отступить от нее. В этом видится желание освободить себя от исторического или политического бремени и «предоставить» его другим, уход от ответственности за судьбы мира. Г.В. Флоровский ссылается на Н.А. Бердяева, анализировавшего философию истории А.С. Хомякова. В этой философии нет пророческого истолкования истории, и нередко встречается морализирование над историей. Этика преобладает над мистикой. В ней есть религиозно-нравственная оценка, но нет религиозно-мистических прозрений. Отсюда следует вывод Флоровского, позволяющий конкретизировать проблему условий и факторов развития русского теоретического мировоззрения. Этический максимализм славянофилов мешал им чувствовать и осознавать повседневную проблематичность христианской истории и жизни. Из этого проистекает притязательное намерение размежевать и обособить «государство» и «землю» в порядке взаимного невмешательства, или свободы друг от друга, принимающих форму своеобразного общественного договора. Возникает новый вариант замкнутого идеального общества. Русский народ, оказывается, представляет себе жизнь, свободу нравственно-общественную, высокой целью которой является христианское общество. Этот идеал во многом определяет «натуралистические» выводы в понимании философии истории. Так, Хомяков в «Записках по всемирной истории» движущими силами исторического процесса считает отвлеченно-натуралистические факторы свободы и необходимости — «дух иранский» и «дух кушитский». В этом плане христианство включается в развитие «иранского начала». Вся неправда христианского Запада сводится к восстанию не-духовного, вещественного «кушитского начала».
В славянофильской философии просматриваются все апории и неувязки романтического мировоззрения, связанные с односторонностью или исключительностью «органической» точки зрения. Романтизм русские мыслители XIX века более или менее последовательно стремились превратить в форму культурного мировосприятия. Однако романтизмом славянофильство не исчерпывается. Приходит иной и новый опыт — опыт церковности. Синтез «церковности» и романтизма славянофилам не удался, и не мог удаться, по крайней мере, из-за «двойственности» и неоднородности происхождения их философствования. И. Киреевский шел в своем мировоззренческом развитии от европейского романтизма и шеллингианства. А. Хомяков через подобный «искус сердцем» никогда не проходил. К. Аксаков и Ю. Самарин прошли через увлечение вновь распространившегося в этот период гегельянства. Нельзя видеть в славянофильстве непосредственное или органическое проявление «народной стихии», как это представлял себе М.О. Гершензон. Еще в большей степени неправ Н.А. Бердяев, считавший славянофильство помещичьей философией и психологией дворянских гнезд. Флоровский обосновывает мнение, что в славянофильстве прозвучал голос «интеллигенции» как нового культурного слоя, прошедшего через искус и соблазн «европеизма». Славянофильство есть акт рефлексии, а не обнажение «примитива». В.В. Розанов писал, что славянофилы так страстно тянутся прикоснуться к родному, так высоко ценят и понимают его именно потому, что, вероятно, безвозвратно порвали жизненную связь с ним, поверили универсальности европейской цивилизации и со всей силой своих дарований не только в нее погрузились, но и страстно коснулись тех глубоких ее основ, которые открываются только высоким душам, но прикосновение к которым не бывает безнаказанным. Отсюда в славянофильстве видится пафос возвращения и постоянная напряженность в противопоставлениях, которая выступает существенной чертой романтического мировоззрения. А. Григорьев отмечал, что славянофильство слепо и фанатично верило в неведомую ему самому сущность народной жизни, и эта вера вменяется ему в заслугу. Г.В. Флоровский делает вывод, имеющий методологическое значение для исследования русского историко-философского процесса, его факторов и детерминант. Славянофильство интерпретируется как звено в истории русской мысли, а не только русского инстинкта. Это было звено в диалектике русского «европеизма».
 Рис. 2. Ангел, свивающий небо в свиток. Фреска из Кирилловской церкви [2] Х!! век. (Прим. ред.).
Рис. 2. Ангел, свивающий небо в свиток. Фреска из Кирилловской церкви [2] Х!! век. (Прим. ред.).
Славянофильство было и стремилось быть религиозной философией культуры. Только в контексте культурно-философской проблематики того времени оно поддается объяснению. У славянофилов были серьезные разногласия с западниками в вопросах о целях, путях и возможностях культуры. Но в ценностях культуры как таковой никто из «старших славянофилов» не сомневался, как бы ни сильны были у них мотивы романтического критицизма. В Западе они видели, по выражению Хомякова, «страну святых чудес». Самым «западным» среди старших славянофилов был И. Киреевский. Выразительным было и название его первого журнала — Европеец» (1832).
Начала русской образованности, не имеющие существенных отличий от европейских, представляются высшей ступенью в развитии культуры Просвещения. Западное Просвещение может развиться до высшего, Православного уровня. Религия как поиск истины, с необходимостью предполагающего возвращение или возрождение гармонии с нравственностью, оставалась для Киреевского романтическим и философским постулатом, т.е. своеобразной логикой, детерминирующей теоретическое мышление. Романтическая религиозность была умонастроением, предчувствием и жаждой веры. Флоровский пытается сопоставить философско-мировоззренческие искания И. Киреевского и В. Одоевского, их понимание места России в Европе. Уже в 20-е годы они угадывают и предчувствуют историческое призвание России на фоне кризиса Запада, который исчерпал свои творческие силы. Киреевский высказывает предположение, что России суждено стать «сердцем» Европы в ближайшую и уже начинающуюся эпоху. Одоевский предсказывает «русское завоевание Европы», внутреннее и духовное. Предпринимается попытка конкретного ответа на вопрос, что сможет внести «русский ум» в совместное творчество культуры. Русский мыслитель считает возможным построить «науку инстинкта», создать «теософскую физику», довести до конечных практических приложений начала новой философии Шеллинга, т.е. явить романтизм в жизни. Аналогичным образом мыслил в 30-е годы И. Киреевский. Заголовок его роковой статьи в «Европейце» — «Девятнадцатый век» — имел конкретный культурный смысл. В статье девятнадцатый век как «положительная эпоха» противопоставляется «разрушительному» восемнадцатому веку. Требуется большее сближение Религии с жизнью людей и народов. Г.В. Флоровский отмечает, что схема построена без учета реальности Церкви. Русское своеобразие Киреевский в этот период оценивает скорее в отрицательном смысле, утверждая, что развитию общества недоставало влияния классического древнего мира, т.е. античного культурного наследия. Эта мысль, встречающаяся у Чаадаева, вероятно, восходит к Ж. де Местру. С этим связано соображение, что в России Христианская Религия была еще чище и святее. Но недостаток наследия классического мира был причиной того, что влияние Православной Церкви, не было ни таким решительным, ни таким всемогущим, как влияние Римской Церкви. Впоследствии в «классицизме» Киреевский увидит начало и корень западного рационализма, засилья «чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя и вне себя ничего не признающего». Весь смысл западной неправды открывается в торжестве формального разума или рассудка над верой и преданием, в котором видится смысл русского своеобразия. Выше предания ставится умозаключение. Древняя Россия при всем своеобразии и медленном развитии обладала не данным западу условием развития правильного знания. В России собиралось и жило то «устроительное» начало знания, та «философия христианства», которая одна может дать правильное основание наукам. Здесь имеется в виду непрерывность святоотеческой традиции. Важны не внешние формы, которые восстановить невозможно, но «внутреннее устроение духа». О переходе на «высшую ступень» И. Киреевский говорил всю жизнь. В романтический период своего творчества он не сомневался, что эта ступень принадлежит к тому же непрерывному процессу развития Запада. Впоследствии он в этом усомнился.
Начало европейской образованности, развивавшееся на всем протяжении истории Запада, оказывается неудовлетворительным для высших требований просвещения. Кризис европейского просвещения разрешится тогда, когда «новое начало» будет принято и освоено — не замеченное до сих пор начало жизни. Мышления и образованности, которое лежит в основании Православно-Славянского мира. Западная философия приходит к осознанию необходимости «новых начал» для дальнейшего развития культуры (Шеллинг), но дальше требования или предчувствия не идет. Киреевский не придавал решающего значения природным, или врожденным, свойствам народа. Ценность русской истории и русского народного уклада определялись для него «высшим началом» Православной Истины — Цельности и Разумности. Русский мыслитель любил и ценил на Востоке эту святоотеческую традицию патристической мудрости. Вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек в глубине особенного, недоступного для западных понятий, живого, цельного умозрения святых отцов Церкви, найдет самые полные ответы на те вопросы ума и сердца, которые более всего тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания.
По мнению Флоровского, Киреевский был человеком одной темы, если не одной мысли. Это проявилось в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (1852). Вопрос по-прежнему ставится о будущем. Русский мыслитель весь в пафосе «делания и созидания», и в духе цельности Церковной, в глубину которой необходимо войти образованному человеку. Возвращение к отцам понимается не в смысле повторения или подражания. Любомудрие святых отцов представляет только зародыш будущей философии, зародыш живой и ясный, но нуждающийся в развитии. Философия, подчеркивает И. Киреевский, не есть основное убеждение, но мысленное развитие того отношения, которое существует между этим основным убеждением и современной образованностью. Отечественная философия должна создаваться не одним человеком, но «вырастать на виду», сочувственным содействием общего единомыслия. Необходимо овладеть святоотеческим методом познания или искания истин, и затем — искать». Все вопросы западного просвещения должны быть признаны, разрешены, а не обойдены. Не в исключении, а в преодолении множества философских и культурных традиций видится задача будущего Православного просвещения. Цельность духа, которой учил Киреевский, не есть врожденная непосредственность, о которой говорили романтики. Способ мышления разума верующего будет отличен от разума, ищущего убеждения или опирающегося на «отвлеченное» убеждение. Это не было «воцерковление», но преодоление романтизма.
 Рис. 3. Пещеры Китаевой пустыни [3] . Здесь преподобный Серафим брал благословение на монашество у монаха Досифея. (Прим. ред.)
Рис. 3. Пещеры Китаевой пустыни [3] . Здесь преподобный Серафим брал благословение на монашество у монаха Досифея. (Прим. ред.)
Систематизатором славянофильского учения Г.В. Флоровский считает А.С. Хомякова. В изображении Хомякова самодостаточность Церкви показана с такой покоряющей очевидностью, что ее историческая действенность остается как бы в тени. Бесспорно влияние на А.С. Хомякова сочинений отцов и учителей церкви. Вероятно, особое внимание русский мыслитель обращал на философию Аврелия Августина, но считал его «истинным отцом схоластики церковной». Основательным было и знание немецкой философии Х1Х века, прежде всего, трудов Гегеля и его критиков. Но влияние Шеллинга на Хомякова не было значительным, как и вообще натурфилософских и космогонических идей. С существенными оговорками можно, вслед за В. Соловьевым, сопоставить воззрения А. Хомякова с воззрениями французских традиционалистов, Бональда и Ламенне. Н. Бердяев тонко подметил, что у славянофилов чувствуется гениальность свободы, а у традиционалистов — гениальность авторитета. Но во Франции в этот период выдвигается ряд «светских богословов», ратующих о возрождении и укреплении церковности, ослабевшей за годы революции (Де Местр, Шатобриан, Бональд, Монталамбер). Следует помнить, что А.С. Пушкин считал романтика Ф.Р. Шатобриана, автора книги «Гений христианства» (1802), учителем всего русского пишущего поколения. Положения сочинений этих авторов напоминают мировоззрение славянофилов. Однако Флоровский справедливо подчеркивает, что вопрос о генезисе системы или мировоззрении нельзя подменять вопросом о «влияниях», т.е. о внешних социокультурных факторах. Не всякое влияние есть тем самым зависимость, и зависимость не означает прямого заимствования, — «влиянием» будет и побуждение. «Влияние» может быть и от «обратного» воздействия на сознание и стиль мышления. Во всяком случае, не следует ссылкой на влияние заслонить самостоятельность мыслителя. Вопрос о влияниях может быть верно поставлен и надежно решен только в том случае, когда генетический процесс может быть восстановлен в целом и прослежен в смене своих фаз. Важнее всего распознать и схватить «основную интуицию», найти исходную точку развития мысли. Бесспорно, что Хомяков исходит из внутреннего опыта Церкви. Он не столько конструирует и объясняет, сколько описывает процессы. В этом видится сильная сторона его понимания истории религиозно-мировоззренческого знания. Как очевидец, он описывает реальность Церкви, как она открывается изнутри, через опыт жизни в ней. В этом отношении богословские положения Хомякова имеют достоинства и характер свидетельства. Сходство и родство его с зарубежными теологами, исследовавшими историю Церкви, следует рассматривать не в плане «влияний», но в плане опыта и свидетельства, как приближение с разных сторон и из различных исходных точек к той же реальности. Общим является признание церковности как метода богословского исследования и познания. «Быть в Церкви» — это необходимое предварительное условие и предпосылка богословского познания смысла и содержания множества культурных процессов, инспирированных верой. Христианство познаваемо только «изнутри», из своего внутреннего содержания. Христианское вероисповедание постижимо, так же, как и вся жизнь духа, только верующему и члену Церкви. Опытный характер «богословствования» у А. Хомякова отметил Ю. Самарин, который писал, что он выяснил «область света, атмосферу Церкви» А.С. Хомяков отрицает возможность определять или доказывать истины христианства с внешней убедительностью, распространяющейся на неверующего человека. Силы разума не доходят до истины Божьей, и человеческое бессилие делается явным в бессилии доказательств. Вместо логических определений русский мыслитель стремится начертать образ Церкви, изобразить ее во всей ее духовной жизненности и самоочевидности. «Христианское знание» не есть дело испытующего разума, но благодатной и живой веры как единственного средства войти в церковные врата. Авторитету противопоставляется свобода не как право, но как обязанность. Формальной принудительности внешнего доказательства противопоставляется внутренняя очевидность истины. Менее всего допускается свобода личных или частных мнений. Рациональная убедительность отстраняется потому, что каждый рассуждает от себя и для себя. Только вера не есть и не может быть «частным делом», ибо вера есть приобщение к Христу. Вера исходит от соединяющего и единого духа, и поэтому всегда есть нечто общее — общее дело. Человек понимает писание в той мере, в какой хранит предание, и постольку, поскольку творит дела, угодные мудрости, в нем живущей. Но мудрость, живущая в человеке, не дана ему лично, но как члену Церкви, и отчасти, не уничтожая личную ложь. Мудрость дана Церкви в полноте истины и без примеси лжи. Поэтому верующий человек не должен судить Церковь, а повиноваться ей, чтобы от него не отнялась мудрость. Церковь есть единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. В этом определении соподчиняются два мотива: «единство» и «покорность» человека, — «дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею (зарывающим талант), но они не в Церкви». Только в покорности, т.е. в своем свободном приобщении и в любви, может человек принадлежать и пребывать в Церкви. Она принимает в свое лоно только свободных. В покорности открывается и осуществляется истинная свобода, ибо в Церкви человек находит не что-то внешнее и чуждое для него. Он находит в ней самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного, искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем. И не в том сила, что раздельное множество собирается в единство, не в простом сложении или сопряжении человеческих возможностей. Сила от духа Божьего. «Каждый из нас от земли, одна Церковь от неба». Сила единства в том, что «единит воистину» только Дух Животворящий. Не согласие как таковое, но согласие в Церкви, т.е. во Христе и Духе, обеспечивает и свидетельствует истину. Когда Хомяков в своей полемике против «западных исповеданий» противопоставляет «личной отдельности» укоренное в православной культуре «святое единение любви и молитвы», он никак не отделяет этого «согласия всех в любви» от «благодати животворящего духа, силой которого «согласие» или «единство» может быть устроено. Вся ценность «согласия» в том, что оно неопровержимо свидетельствует о благодати, о присутствии Духа, без которого оно невозможно. Колеблющееся «верование» обращается в непреклонность «веры» только силой Духа Святого. Вера есть Дух Святой, налагающий свою печать на верование. Но эта печать не дается человеку по его усмотрению. Она вовсе не дается человеку, пребывающему в своей одинокой субъективности. Она была дана единожды, на все века, апостольской Церкви, собранной в святом единении любви и молитвы, в великий день Пятидесятницы. И от этого времени христианин, человек субъективный, слепой протестант по своей нравственной немощи, становится «зрящим кафоликом» в святости апостольской Церкви, к которой он принадлежит, как ее неразрывная часть.
В этой концепции предпринимаются попытки синтеза теоцентризма, этикоцентризма и антропоцентризма, становящиеся мировоззренческими факторами развития философского знания. Не потому личность становится кафолической, или соборной, что включается во множество верующих, но потому, что приобщается единству благодати. Кафолический, или соборный, не значит «всемирный». Понимание кафоличности восходит к трудам св. Афанасия. «Соборность» для Хомякова не совпадает с «общественностью» или корпоративностью. Соборность в его понимании вообще не есть человеческая, а Божественная характеристика Церкви. «Не лица и не множество лиц в Церкви хранят предание и пишут, но Дух Божий, живущий в совокупности церковной». «Нравственное единство» есть только человеческое условие и залог этого соборного преображения Духом. Это понимание «кафоличности» было воспринято В.С. Соловьевым в его «Духовных основах жизни». Отличительным признаком божественности в Церкви считается «внутренняя всецелость и кафоличность» ее пути, ее истины, ее жизни, всецелость не в смысле механической совокупности всех частей и членов, а в смысле мистической (сверхсознательной) связи и духовного нравственного общения всех частей и членов Церкви между собой и общим Божественным Главою. Только по недоразумению можно упрекать Хомякова в том, что он сводит единство Церкви к нравственным и психологическим моментам, преувеличивает значение человеческого согласия или несогласия, умаляет тем самым «достоинство и ценность Истины (П. Флоренский). Флоренский считал возможным сводить весь смысл полемики Хомякова против «западных исповеданий» к тому, что «право и принуждение, — стихию романских народов, — он хочет вытеснить общественностью и родственностью, — стихией народов славянских». В учении о «соборности» Флоренский угадывает только замаскированный социализм («объяснить все из момента социального»), осторожный подход к теории «всечеловеческого суверенитета». Такое перетолкование воззрений А. Хомякова в концепции Г. Флоровского считается скорее инвективой, чем критикой, Как бы не двоились социально-философские представления славянофилов, в учении о Церкви Хомяков остается верен основной и древнейшей святоотеческой традиции. В своей полемике А.С. Хомяков только применяет древнецерковный обычай противопоставлять Церковь и ересь, прежде всего, как любовь и раздор, или общение и одиночество. Так это было у Иринея, Тертуллиана, Оригена, особенно у Аврелия Августина, в трудах которого акцент переносится на любовь. Именно с такой точки зрения Августин вел свою полемику против донатизма. В книге И.А. Мелера «О единстве в Церкви» (первым изданием вышла в 1825 г., переиздана в 1843 г.) Хомяков мог найти блестящую характеристику принципов древнецерковной полемики. На эту книгу Мелера ссылок у Хомякова нет, но его другие книги получили распространение среди славянофилов. Его «Символика», в которой протестантизм опровергается за обособление, и монография о св. Афанасии, где полемика против ариан истолкована в том же духе «соборности», обращенной против духа отчуждения и раскола. Термин «католицизм» передается в книгах Мелера словом «соборность». Автор определял «кафоличность» как единство во множестве, непрерывность общей жизни. Таким сопоставлением самостоятельность воззрений Хомякова не ставится под сомнение. У Мелера он мог найти конгениальное обобщение святоотеческих свидетельств, поскольку учение о Церкви излагается в духе отцов христианской Церкви первых трех веков.
И.А. Мелер принадлежал к поколению немецких католических богословов, которые вели борьбу с веком Просвещения, но не ради восстановления схоластической традиции, а во имя духовного возврата к святоотеческой полноте веры и знания. Тюбингенская католическая школа была исторической школой в богословии. Задача церковной истории полагалась в том, чтобы изобразить Церковь, этот богочеловеческий и несущий Святой Дух организм, в ее внутреннем становлении и развитии. Началу внешнего авторитета противопоставляется начало благодатной Жизни. Это, по мнению Флоровского, было реальным внтуренним преодолением того «романистического» духа, высшим пределом которого стал впоследствии Ватиканский собор. Из духа Тюбингенской католической школы питалась старо-католическая оппозиция. Восстановление церковно-исторического чувства сопровождалось общим напряжением церковного самочувствия, повышенным чувством церковности. К этому, подчеркивает Г.В. Флоровский, присоединяется философский замысел, подобный тому, который встречается у Киреевского, — связать и сочетать, или «сообразить», опыт святоотеческий и опыт современного просвещения, опыт философии Нового времени. В книгах Мелера, прежде всего, в его учении о Церкви, обнаруживается творческое применение или использование мотивов, взятых у Шеллинга, Гегеля, отчасти Шлейермахера.
В позднейших сочинениях немецкого богослова образ Церкви сознательно и непосредственно противопоставляется Гегелевскому государству. В своем творческом синтезе Мелер исходит не из отвлеченных философских предпосылок, но из конкретного бытия, благодатной действительности Церкви. Он не строит умозрительную схему, а описывает живой опыт. Из глубины церковного самочувствия, из опыта церковности Мелер судит и опровергает Реформацию, отвергает основной принцип протестантизма. Обнаруживается сходство между полемической «Символикой» Мелера и полемической программой Хомякова, в его работах о «западных исповеданиях». Впоследствии С.Н. Трубецкой пытался распространить критику А.С. Хомякова на всю историю философии эпохи Нового времени, как основанной на «принципе личного убеждения», и противопоставление этому учения о кафолическом, или соборном, сознании. Тема «западных исповеданий» органически проистекала из духа философско-мировоззренческой системы, разработанной мыслителем-славянофилом. Именно потому, что в бытии Церкви Хомякову самым важным и первичным представлялось ее онтологическое единство, ее соборность, или кафоличность, он должен был объяснить и возможность расколов в христианском мире, и их мировоззренческий смысл. Поэтому акцент делается на нравственности, подчеркивается недостаток любви как источник западной схизмы. А. Хомяков стремился выявить и показать источник схизмы как движущей силы выделения в христианском мире различных направлений. Флоровский подчеркивает, что русский мыслитель адекватным образом оценивает догматические расхождения церквей. В переписке с Пальмером он настаивает на необходимости догматического единодушия и единомыслия христианства как мировоззренческой предпосылке существования христианской культуры и ее самосознания. Церковь не может быть «объединением разномнений». Но простого единомыслия, умственного и сердечного, согласия с полнотой кафолических учений Церкви верующему человеку мало для того, чтобы принадлежать ей в ее полноте и жизнеспособности. Остается «нравственное препятствие», т.е. разделяющая воля. В истории православной символики, или «обличительного богословия» Хомякову принадлежит заслуга принципиальной и обобщенной постановки вопроса, связанного с преодолением старинной казуистики. В схемах А.С. Хомякова достаточно стройности и последовательности, но история христианского Запада не укладывается полностью в схему распавшихся «единства» и «свободы» на фоне оскудевающей любви.
В системе воззрений Хомякова особого внимания заслуживают мысли и суждения об историческом раскрытии или самоосуществления Апостольского предания (что на Западе принято понимать под неточным наименованием «догматического развития»). В начале 40-х годов на эти темы в славянофильских кругах идет спор. Повод к нему подал Ю. Самарин, переживавший в этот период сильное влияние Гегеля. Он выдержал экзамен на магистра и писал диссертацию о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче. В истории русской Церкви при Петре Самарин видел столкновение двух принципов — «романизма» и протестантизма. Славянофил видел в этом столкновении «диалектическую встречу». Перед Ю. Самариным и К. Аксаковым, находившихся под влиянием гегелевской диалектики, вставал вопрос о путях церковно-догматического развития, необходимости исповедовать «Церковь развивающуюся». В более поздний период Самарин под влиянием Хомякова смягчил прямолинейную диалектичность своих теоретических схем. Ю. Ф. Самарин различал и разделял жизнь и сознание и из этой первоначальной предпосылки выводил свои диалектические построения. А.С. Хомяков считал, что в Церкви «учение живет и жизнь учит». Так встречаются, по выражению Флоровского, два разных понимания исторического движения Церкви. У Самарина диалектика, предполагающая в исходной точке раздельность, а у Хомякова органическая точка зрения, предполагающая изначальную цельность. Ю. Самарин слишком резко различал два нераздельных аспекта церковности: Церковь как жизнь таинств (здесь он не допускал развития), и Церковь как школа. Стремление к возведению жизни в стройную систему догматов есть развитие Церкви как школы. Эта вторая сторона ее, по времени, проявилась позже, но по своему значению стоит выше первой. Вселенский собор в развитии Церкви есть высшая ступень, соответствующая в этом отношении тому. что таинства есть в жизни, следовательно, высшее проявление Церкви вообще. В Церкви борющейся, т.е. воинствующей, это противоречие между непосредственностью жизни и сознанием, никогда не может и не будет снято, пока не наступит торжество Высшей Истины. Развитие никогда не заканчивается. Церковь развивается, т.е. постоянно приводит к своему сознанию вечную, неисчерпаемую Истину, которой она обладает. Это не значит, что только в этом процессе самопознания она впервые только становится Церковью. Она есть от начала. Однако, сознание есть для Самарина высшая ступень. И в столкновении богословских мнений он усваивает «судящую» роль философии. Изучение православия привело славянофила к выводу, что оно явится тем, чем может быть, и восторжествует только тогда, когда его оправдает наука. Вопрос о Церкви зависит от решения философских вопросов, основанных на понимании диалектики Гегеля. Все преимущество православия Самарин видит в том, что Церковь не притязает на поглощение в себе науки и государства, как в католичестве, признает их рядом с собой как отдельные, относительно свободно развивающиеся сферы. Православная Церковь осознает себя только как Церковь. В духе гегельянства Ю. Самарин замыкает Церковь в обособленный момент веры, ограничивает ее религиозностью. Религия не должна притязать на то, чтобы стать философией. Это нарушило бы ее самостоятельность как общности. Но отсюда, подчеркивает мыслитель-славянофил, с очевидностью следует преимущество философии. Ибо только философия может оградить неприкосновенность религиозной сферы, провести твердую грань между разумом и верой. Философия признала религию как самостоятельную сферу, со всеми ее особенностями, с таинствами чудесами.
Неправду западных исповеданий Самарин видит в этой нерасчлененности «отдельных сфер». Только Православие может быть оправдано философией, которая определит ей место, как вечно присущему моменту в развитии духа, и решит в ее пользу спор между нею и западными вероисповеданиями. Под философией русский мыслитель подразумевает диалектический идеализм Гегеля. По его мнению, вне этой философии Православная Церковь не сможет существовать. Г.В. Флоровский отмечает, что, прочитав диссертацию Самарина, Хомяков сделал вывод, что в ней отсутствует откровенная любовь к Православию. Тайны жизни и ее внутренние источники недоступны для науки и принадлежат только любви. В этом коренится своеобразие Хомякова в учении о церковном развитии. Познание Божественных истин дано взаимной любви христиан, и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Церковь сама о себе свидетельствует. Она унаследовала от блаженных апостолов не слова, а наследие внутренней жизни, наследие мысли, невыразимой, но, однако, постоянно стремящейся выразиться.
Как организм любви, Церковь не подлежит и не может подлежать суждению разума. Напротив, дело разума подлежит решающему пересмотру Церкви, а решение Церкви истекает не из логической аргументации, а из внутреннего смысла, исходящего от Бога. А.С. Хомяков подчеркивает тождественность и непрерывность церковного сознания. Мысль Церкви во все эпохи есть та самая мысль, которая начертала писания. Эта мысль впоследствии признала писания и объявила их священными, а позднее сформулировала их смысл на соборах и символизировала в обрядах. Мысль Церкви в настоящую минуту и мысль ее в минувших веках есть непрерывное откровение, вдохновение Духа Божьего.
Богословские определения и толкование вероучительных истин Хомяков считает условными, подразумевая, что изрекается не полная истина, а полнота и истина могут быть увидены и опознаны только «изнутри». Все слова человека суть не свет Христов, а только тень Его на земле. Русский мыслитель не утверждает, что догматическая терминология самодостаточна и адекватна, вне опыта, т.е. в порядке доказательного изложения. Аналитический труд неизбежен, более того, он свят, и благ, ибо свидетельствует, что вера христианская не простой отголосок древних формул, но он указывает на сокровище глубокой и невыразимой мысли, хранимое Церковью. Эта мысль не умещается в границах познавательных способностей человека, она существует в полноте разумного и нравственного бытия. Г.В. Флоровский отмечает, что А.С. Хомяков здесь остается верен традициям святоотеческого богословия, в связи с полемикой против Евномия и его религиозно-гносеологического оптимизма.
Русский философ-славянофил пытается дать конкретный ответ на вопрос, как быть православным христианином. То, что Церковь высказала, тому веровать необходимо и безусловно, знать, что все, что она когда-нибудь выскажет, будет истинным, но что она еще не высказала, того за нее не высказывать авторитетно, а стараться самому разумно осмыслить, со смирением и искренностью, не признавая над собой ничьего суда, пока Церковь не изрекла своего суда. В богословии окончательная система не дана и невозможна. К этому общему выводу приходят Самарин и Хомяков. Но мотивация и аргументация мыслителей различна. А. Хомяков всегда воспринимает богословие на живом фоне изначальной и неизменной «перводанности» Откровения и Церкви. Богословие должно и может быть только «аналитическим» свидетельством и подтверждением откровения. Богословие представляется описанием этой благодатной действительности, которая явлена и открыта в непогрешимом и непреложном опыте Церкви. Самарин верно передал основное в церковном самочувствии Хомякова, для которого Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истины и любви, или, точнее, истина и любовь как организм. Голос А.С. Хомякова в свое время прозвучал как напоминание о церковности, напоминание о церковном опыте, как первоисточнике и мере всякого подлинного «богословствования». Этим был подан знак к возвращению из школы в Церковь. Поэтому данный призыв смутил даже лучших из «школьных богословов». Для них контекст западноевропейской науки эпохи Нового времени был более привычен, чем неожиданные и необъятные идеи-чувства святоотеческого богословия и аскетики IV века, возникшие как реакция на неортодоксальное рационалистическое богословие (Василий Великий, Григорий Богослов). Призыв славянофила показался слишком смелым и решительным, даже язык его статей показался слишком живым, и, в своей жизненности, «не точным». Это было поводом остановить статьи Хомякова в цензуре на Западе. Флоровский отмечает, что такое же впечатление «неточности» было у «школьных критиков» от книг де Местра. И когда богословские сочинения А. Хомякова были допущены к свободному обращению, особая заметка предупреждала о школьной неточности: «неопределенность и неточность встречающихся в них некоторых выражений, происшедшие от неполучения автором специально-богословского образования» (эта цензурная пометка воспроизводилась вплоть до издания 1900 г.).
В пережитой истории русской философии Г.В. Флоровский выделяет три эпохи. Первая охватывает около трех десятилетий, с середины 20-х до середины 50-х годов, от первого кружка московских любомудров до Крымской войны. Это «замечательные десятилетия» русской романтики и идеализма. Эта эпоха судорожно оборвалась, была прервана неистовым приступом антифилософских настроений, восстанием «детей» против отцов. Вторая эпоха в истории русской мысли почти совпадает со второй половиной XIX века. Это было время большого общественного и социально-политического возбуждения, время «великих реформ», а затем и «обратного хода». Это было время существенных сдвигов и расслоений русского общества. Но, прежде всего, это был снова, как в тридцатые годы, духовный сдвиг или «ледоход». Н.Н. Страхов, следуя религиозно-мистическому пониманию культуры, называл годы после Крымской войны «воздушной революцией». «Умственной весной» называл эти годы К.Н. Леонтьев, для которого «культурородными» были все государственные религии, и даже ереси, возвращающие человеку мистические чувства. Н.В. Шелгунов, анализируя состояния общественного сознания с позиций материализма или реализма, отмечал, что после Севастополя все очнулись, все стали думать, всеми овладело критическое настроение. Это было время «всеобщего сдвига» в культурном сознании, которого еще не было в тридцатые годы. Новое общественное движение, развившееся в «Шестидесятые» годы, предваряется «отрицанием». Действительный смысл тогдашнего «нигилизма», по мнению Флоровского, заключается не только в стремлении порвать с устаревшими традициями, отвергнуть или разрушить обветшалый быт. «Отрицание» было всеобщим. Отвергалось всякое «прошлое» вообще, т.е. историю. Русский нигилизм был самым яростным приступом антиисторического утопизма. За критическим образом внешних действий скрывались не-критические предпосылки — резонирующий догматизм Просвещения. Это был шаг назад, к авторитетам XVIII века. Во всем стиле «Шестидесятых» годов просматривается нарочитый архаизм. Возврат симпатий к Руссо происходил через Прудона. Не-приятие истории с необходимостью превращалось в отрицание культуры вообще. Нет и не может быть культуры иначе, как в истории, в элементе «исторического», т.е. в непрерывности традиций. Это, подчеркивает Г.В. Флоровский, был возврат к «природе», возврат из «истории», обратное включение человека в «естественный порядок», в порядок естества, т.е. природы. Вместе с тем это был возврат от «объективного» идеализма в этике к «субъективному», по терминологии Гегеля, от «нравственности» к «морали», от историзма Гегеля или Шеллинга к Канту «Критики практического разума» с ее отвлеченным морализмом в духе Руссо. В мировоззренческом и методологическом отношении это было утопическим злоупотреблением категорией «идеал», злоупотребление правом «морального суждения» и оценки, против чего настойчиво возражал Гегель. Флоровский доказывает, что в догматизации «отвлеченных» и самодовлеющих идеалов и заключается психологический смысл всякого утопизма, стремящегося перекраивать действительность по новым меркам. В кантовской этике категорического императива есть великая и непреложная истина, и моральная оценка не может и не должна быть подменяема или заслоняема ничем иным. Но эта «императивность» способна вырождаться в мечтательные притязания, в одержимость надуманными планами преобразования общества, когда утрачивается чувство исторической действительности. Это была «схоластика наоборот», стремление «строиться в пустыне». Для утописта очень характерно такое самочувствие: в истории чувствовать себя как в пустыне, ибо «историческое» обрекается на слом. «Раскол в нигилистах» не нарушал единодушия в этом утопическом морализме. Нет различия в этом отношении между людьми «Шестидесятых» и «Семидесятых» годов. Нигилисты 60-х годов на словах отвергали всякую независимую этику, любую этику, подменяя моральные категории началами «пользы», «счастья» или «удовольствия». Тем не менее, они оставались в плену прописного морализма, были подлинными педантами и «законниками» в самом своем гедонизме или утилитаризме. Они выдвигали, в противоположность исторической действительности, систему «понятий» и «правил», «здравых понятий» и «простых правил». На основе «прописей» Д.И. Писарев судил и переоценивал всю историческую культуру, хотя на словах он отвергал понятие цели и право оценки.
Типичными «законниками», по мнению Флоровского, были родоначальник утилитаризма И. Бентам, и основоположник английского позитивизма и либеральной идеологии Дж. Ст. Милль. Принцип утилитаризма требовал постоянного оценочного «перемеривания», переоценок, для установления наибольшей пользы или счастья. Напрасны были притязания крайних «реалистов», полагающих, что в биологическом учении об эволюции окончательно снимаются все оценочные и «телеологические» категории. В действительности дарвинизм оставался учением крипто-моралистическим, только «цель» и «ценность» прикрываются в этой системе термином «приспособление». Поэтому легко и быстро произошел переход к откровенному морализму «Семидесятых» годов, когда слово «идеал» стало самым употребительным в теоретических мировоззрениях и привлекательным для деятелей культуры, и в моральном сознании получили распространение представления о «долге». Это были, однако, лишь новые вариации на старые темы. Пафос моралистического или гедонистического «законодательства» психологически был пережитком и рецидивом Просвещения. Диалектика историко-философского процесса, включающая его социокультурные детерминанты, усматривается в том, что запоздалый и отсталый антиисторический нигилизм мог стать популярным в России в эпоху расцвета имеющих реальный научный смысл исторических исследований, в обстановке «историософской впечатлительности». В русской культуре и ее рефлексиях с 60-х годов отмечается не только разрыв, но и парадоксальность развития. В истории русского культурного творчества вторая половина XIX века ознаменовалась новым эстетическим подъемом и новым религиозно-философским пробуждением. Это было время Достоевского и Толстого, Тютчева и Фета в лирике, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова в музыке, В. Соловьева, К. Леонтьева, Н. Федорова в философской мысли. Этими именами обозначается и направляется «творческая магистраль» русской культуры. Однако, подчеркивает Г.В. Флоровский, «русское самосознание» не ориентировалось на творчество и не следовало за ним. На новый подъем художественного гения последовала своеобразная диалектическая реакция «разрушения эстетики» (от Писарева до Толстого), а религиозной тоске и боли противопоставлялся плоский и невежественный рационализм. Это был снова разрыв и распад «интеллекта» и «инстинкта», рассудка и интуиции. «Рассудок» теряет ориентацию и распадается в таком «самозамыкании», теряет доступ к глубинам опыта, оттого и резонирует, судит и обличает, но менее всего — познает. Но именно перед этим «ослепшим» рассудком интуиции приходится оправдываться. С этими духовными процессами непосредственно связывается новое социальное противоречие и конфликт между творческим и творящим меньшинством и общностью, которую принято называть интеллигенцией. В эту эпоху к философии как «метафизике» складывается негативное отношение. Хотя в действительности в обществе существует острая потребность в философии, и «философское беспокойство» составляет существенное состояние культурного умонастроения, его предписывается удовлетворять не в творчестве, а в дилетантском «просвещении». Начинается новая борьба, подлинная борьба за мысль и культуру. Это уже не внешняя борьба, как прежде, во времена политической реакции, когда философию, как «мятежную науку», польза которой сомнительна, а опасность очевидна, исключали из университетских программ. Теперь борьба переносится «вглубь» духовной жизни общества. Приходится бороться не с консерватизмом и не с косностью застарелых предрассудков, но с мнимым «прогрессизмом», с упрощенчеством в понимании общества, с общим снижением самого культурного уровня. «Философия во всей Европе потеряла кредит» — эту фразу популярного тогда позитивиста Льюиса любили припоминать и повторять русские «радикалы» тех времен. Это отрицание философии, вернее, отречение от философии, означавшее «моралистический подлог», подстановку или подмену критерия «истины» критерием «пользы», русский мыслитель назвал «одичанием умственной совести». Для мировоззренческой характеристики эпохи приводится высказывание либерального народника Н.К. Михайловского: «Человеческая личность шире истины». В обществе оказывается утраченной потребность в истине, теряется познавательное смирение перед действительностью и объективностью. «Человеческая личность» освобождает себя и от действительности, которой предписывает свои требования или пожелания, «пластичность» которой предполагает и утверждает. Менее всего умонастроение тех времен было «реалистическим», как бы много тогда о «реализме» не говорили и не занимались естественными науками. В теориях второй половины XIX века чувствуется, напротив, крайнее напряжение и активность отвлеченного воображения. В «Шестидесятые» годы обострилось противоречие между «книжностью» и «кабинетностью». Именно в редакциях «толстых журналов», а не в лабораториях, и дилетантами, а не творцами, вырабатывалось тогда «культурно-общественное само-сознание». Ум привыкает жить в избранных рамках доктрин, сам обрекает себя на «одиночное заключение», не умеет, не любит, не хочет и даже боится «просторов объективной действительности». Поэтому ум декретирует невозможность и недопустимость бескорыстного познания, невозможность и ненужность «чистого искусства», объявляет истину только «удовлетворением познавательных потребностей». Это было самым дурным доктринерством. «Сердца пламенели новой верой, но умы не работали, ибо на все вопросы были уже готовые и безусловные ответы» (Вл. Соловьев). В этом отношении не было существенных различий между сменяющимися поколениями русской интеллигенции, как бы не расходились они в другом. Русский интеллигент, по верному наблюдению С.Л. Франка, сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной, исторической, бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний, благочестивой веры. Это умонастроение представляет собой самый худший и мрачный аскетизм- любовь и волю к бедности. Но это совсем не христианская «нищета духовная», ибо в этой бедности меньше всего смирения. Это самодовольная, гордая, притязательная и злобная бедность.
Рецидив «просвещенчества» ничем творческим не сказался в русской культуре, но это была опасная «прививка» к ней. По словам Н. Бердяева, право философского творчества было отвергнуто в высшем судилище общественного утилитаризма. В этом отношении показательной была полемика журнала «Современник» с воззрениями П. Юркевича и П. Лаврова, в которой отсутствовала логика доказательств и опровержений. А. Григорьев метко прозвал нигилистов той эпохи людьми новейшего Пятикнижия, которые исповедовали вульгарный материализм и его интерпретации дарвинизма как высшие достижения философской и научной мысли (Бюхнер, Фохт, Молешотт, вульгаризированный Фейербах). Вл. Соловьев отмечал смену «катехизисов» и «обязательных авторитетов». По его мнению, пока оставалась в силе безусловность материалистической догмы, ни о каком умственном прогрессе не могло быть и речи. Флоровский отмечает, что и в области естествознания тогдашние идеи и настроения были движением вспять даже по сравнению с работой А.И. Герцена «Письма об изучении природы» (1845-1846). Экспериментальная наука шла вперед, но теоретическая мысль, которая должна была посредством философии обобщить ее достижения, заметно отставала. Эта «отсталость самосознания» и была первым итогом «нигилистического сдвига». Общество раскололось, и творческие меньшинства потеряли его сочувствие. Раскололось культурное сознание, и творческие порывы оттеснялись под давлением цензуры общественного утилитаризма, спешно конструировавшего доктринальные принципы. Культура оказывалась «неоправданной» в глазах людей, причастных к ней, и даже ее творцов. Отсюда следовали настроения покаяния и неправедного обладания ее средствами. Следует признать справедливыми мысли С.Л. Франка, что вся история русского умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентации в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. Из этого манихейско-гностического, дуалистического миропонимания и мироотношения, которые современные исследователи считают «кодом» русской культуры, следует характерный русский максимализм, предполагающий гипертрофированное чувство свободы и независимости, не обуздываемое и не ограничиваемое изнутри уже потерянным инстинктом действительности. Из «релятивизма» диалектически рождается нетерпимость доктринеров, охраняющих свои произвольные решения. Этот «нигилистический морализм» легко сочетался с «пиетическими» навыками, унаследованными от предыдущих эпох и поколений. Эти социокультурные умонастроения составляли основы психологической детерминации развития философского мировоззрения, ориентированного на естественнонаучный материализм и материалистически интерпретируемый позитивизм. Отмечается равнодушие к культуре и действительности, чрезмерное «вхождение внутрь себя», преувеличенный интерес к «переживаниям», т.е. безысходных психологизм. Острый привкус психологизма явно ощущается и в самом русском культурном творчестве до самого конца Х1Х века. «Метафизика» казалась слишком холодной и черствой, на ее место ставили этику или мораль, рассматривая детерминанты развития философского знания как органично присущие ему мировоззренческие и культурные ориентации и идеалы. Реальный вопрос о том, что существует в действительности, подменялся вопросом о том, чем ему необходимо быть. В этих мировоззренческих исканиях явно чувствовался утопизм. Но утопическая тенденция проявляется и в богословских концепциях той эпохи. Слишком часто предпринимались попытки «догматы» растворить в «морали», переложить их с греческого «метафизического» языка на русский этический язык. Преодоление «аскетического психологизма», зародившегося в 60-е годы, оказалось очень трудной задачей, поскольку связывается с необходимостью исправления «умственной совести».
Г.В. Флоровский делает вывод, что вся история русской интеллигенции проходит в XIX веке под знаком религиозного кризиса. Образ Д.И. Писарева в этом отношении, вероятно, характернее других. Весь нигилизм Писарева был подготовлен мечтательно-моралистическим перенапряжением и надрывом, участием в мистическом, по существу, кружке, собираемом для благочестивых бесед и взаимной нравственной поддержки. Срывом религиозного чувства считается и духовный кризис Н.А. Добролюбова. Это был кризис веры в Провидение, во вселенскую справедливость. Иначе протекал религиозный кризис Н.Г. Чернышевского. Это был кризис воззрений, а не убеждений и верований. Промежуточной ступенью и у Чернышевского был религиозно-сентиментальный гуманизм. В этом отношении различие между французским утопизмом и Фейербахом не столь резко. В толковании Фейербаха образ Христа оставался символом братской любви и человеческого благородства. В 1848 г. Чернышевский ждал нового Мессию, ждал религиозно-социального обновления мира. По внушению совести, он решительно отвергал основной «догмат» дарвинизма, борьбу за существование, как учение безнравственное, по крайней мере, по отношению к человеку. Н.Г. Чернышевский придерживался теории Ламарка, в которой органическое развитие объясняется творческим приспособлением. В этом вопросе Чернышевский, Кропоткин и Михайловский неожиданно сходились с Данилевским. Религиозное отрицание не означает равнодушия к человеку и миру. Это скорее показатель подавленного душевного беспокойства. Не так внезапен был уже в начале «Семидесятых» годов бурный взрыв религиозно-утопического энтузиазма, который связывается с исходом или хождением в народ, вдохновляемый Евангелием. Хождение в народ сравнивается с крестовым походом. Как ни далека была тогдашняя религиозность от подлинной «Благой Вести», искренность чувства и действительность религиозной потребности несомненны. Г.П. Федотов отмечает взрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии. Это было безумием религиозного голода, не утолявшегося веками, поиском религии. Только «созданием новой религии» как «религии сердца», или «религии братства», способной дать счастье человечеству, можно было закрепить этот энтузиазм и обратить его в постоянное и неискоренимое чувство. История стала переживаться на уровне религиозного самосознания. Не случайно в форме катехизиса была написана одно из популярнейших произведений этого периода -книга В.В. Берви-Флеровского «Азбука социальных наук» (1871). Социалистические движения, по мысли Г.В. Флоровского, направлялись религиозным инстинктом, который, однако, был слеп. Через двести лет мученикам двуперстия откликаются мученики социализма (Г.Федотов). В тогдашнем увлечении социалистическими и коммунистическими идеалами Флоровский видит подсознательную и «заблудившуюся» жажду соборности, и вместе с тем, своеобразный апофеоз человечности. Он упоминает секту «богочеловеков», испытавшей, вероятно, влияние фейербахианства с его девизом: «Человек человеку — Бог», влияние которой на радикальную молодежь, по его мнению, трудно переоценить.
Возврат к религиозности и религиозные ренессансы во все эпохи существования русской культуры был одновременно пробуждением философского сознания. Религия, культура и философия существуют в диалектическом единстве, и связаны органичным образом. Рефлексии культурных процессов инспирируются творческими меньшинствами, осознающими цели и задачи исторического бытия нации и человечества, и формирующими общественное самосознание. Системы мировоззренческих и культурных ориентаций, воплотившихся в идеологии и деятельности многообразных, прежде всего, религиозных движений и объединений, интерпретируются как мощная движущая сила историко-философского процесса, развивающегося на основе созидания, единства и преемственности духовных и социальных идеалов.
©Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент, 2012 г.
©Арушанов Сергей Зармаилович, редактирование и оформление, 2012 г.
Приложение:
Мне показалось, читателям будет важно и интересно познакомиться с понятием – «Экуменизм». (Прим. ред.)
Материал из свободной энциклопедии Википедия:
«Экумени́зм [4] (греч. οἰκουμένη, обитаемый мир) — идеология всехристианского единства, экумени́ческое движение — движение за всемирное христианское единение, в более узком и общепринятом значении — движение за лучшее взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий. Преобладающая роль принадлежит протестантским организациям.
Общие положения и причины возникновения
Согласно мнению некоторых авторов, экуменизм возник в начале XX века с целью[1]:
Сторонники экуменизма считают, что это будет исполнением слов Христа:
«И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». (Ин.17:22-23)
Отношение различных христианских конфессий к экуменизму
Ранние формы экуменизма
Известны экуменические тенденции, проявившиеся на средневековом христианском Востоке[2][3]. Эти явления были в значительной мере обусловлены расцветом культуры арабского Халифата[4].
В период Реформации на территории Германии получили распространение совместные церкви (симультанеумы), где службы проводили попеременно представители различных конфессий. Религиозной толерантности способствовал и принятый в Германии по результатам Аугсбургского мира принцип cuius regio, eius religio.
Позднее принцип безразличия к конфессии, при условии веры в Бога, получил распространение в масонстве. Все официальные церкви Европы и России относились к масонству отрицательно.
Экуменизм и православная Церковь
Одними из первых экуменических собраний были: конференция 1920 года в Женеве (Швейцария), Лозанская конференция 1927 года (Швейцария), а формирование экуменического движения в современном виде было довершено конференцией 1945 года в Стокгольме (Швеция).
В январе 1920 года местоблюститель патриаршего престола Константинополя, митрополит Дорофей выпускает энциклику под названием «К Христовым Церквам всего мира», в которой заявляет, что считает возможным взаимное сближение и общение различных, так называемых «христианских церквей», несмотря на догматические различия между ними. Эти Церкви названы в энциклике Константинопольского патриархата «сонаследниками, составляющими одно тело». Митрополит Дорофей предлагает основать «Общество Церквей» и, в качестве первого шага для сближения, принять «единый календарь для одновременного празднования главных христианских праздников».
Через полгода после издания данной энциклики Константинопольский патриархат принимает участие в экуменической конференции в Женеве (август 1920), которая занималась разработкой принципов экуменического движения.
Следующим заметным этапом в экуменической деятельности Константинопольского патриархата стал «Всеправославный конгресс» 1923 года в Константинополе. В нём приняли участие представители только пяти поместных православных Церквей: Константинопольской, Кипрской, Сербской, Элладской и Румынской.
Конгресс устанавливает изменение церковного календаря, допускает второбрачие для духовных лиц и принимает другие постановления.
Новый стиль вводится в Константинопольской патриархии и в Элладской Церкви в марте 1924, 1 октября 1924 года — в Румынской Церкви. В течение последующих лет на новый стиль перешли Александрийская и Антиохийская церкви.
Наиболее ярко экуменические взгляды изложил Вселенский патриарх Афинагор. В ответ на рассказ Оливье Клемана о некоем богослове, который повсюду видит ереси, Афинагор сказал: [5]
А я не вижу их (ереси) нигде! Я вижу лишь истины, частичные, урезанные, оказавшиеся иной раз не на месте и притязающие на то, чтобы уловить и заключить в себе неисчерпаемую тайну…
Болгарская православная церковь и Грузинская Православные Церкви в 1997—1998 годах покинули Всемирный совет церквей.
Экуменизм и Русская Православная Церковь (Московская Патриархия)
На декабрь 1946 года Всемирным Советом Церквей и Московской Патриархией была назначена встреча для «ознакомления друг с другом и установления общей базы, целей и деятельности Совета Церквей»[6]. 12 августа 1946 года в специальном докладе на имя Патриарха протоиерей Григорий Разумовский отмечает условия участия РПЦ МП в экуменическом движении:
«Мы согласны вступить в экуменическое движение, если:
1) лидеры экуменического движения откажутся на деле от покровительства нашим раскольникам (Феофил, Дионисий, Герман Аав, Анастасий, Иоанн Шанхайский) и фактически проявят действия известного этим лидерам давления на раскольников, в целях воссоединения их в юрисдикции Святейшего Патриарха Московского;
2) если ни один из представителей наших раскольников не будет приглашён к участию в движении. Никаких Безобразовых, никаких Флоровских и других креатур парижского Богословского Института к участию в движении не должно быть допущено.
Или они, экуменисты, пожелают иметь дело с единой целостной (в своих прежних границах) Русской Православной Церковью, или в экуменическом движении не будет участвовать ни одна из Поместных Православных Церквей (восточных, балканских и др.) Таков наш ультиматум. Чтобы он мог быть удовлетворен — следует сколотить блок всех православных и неправославных, но находящихся или на территории СССР или в сфере влияния СССР (армяне, старокатолики) церквей [6]».
Однако Всемирным Советом Церквей этот «ультиматум» не был принят, и на московском всеправославном Совещании 1948 года Антиохийская, Александрийская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская и Русская Православные Поместные Церкви в резолюции «Экуменическое движение и Православная Церковь»[7] отметили, что «принуждены отказаться от участия в экуменическом движении, в современном его плане»[8].
Но ровно десять лет спустя митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (председатель ОВЦС), выступая в Московской духовной академии[9] декларировал новую позицию РПЦ МП по отношению к участию в экуменическом движении.
Основной причиной для пересмотра решений Совещания послужил (как и ныне) аргумент о необходимости проповеди Православия среди инославных. По словам митрополита Николая, «благодаря участию одних Православных Церквей» произошла «эволюция экуменического движения»… «соприкасаясь с нашей церковной жизнью, многие деятели экуменического движения совершенно изменили свое представление о православии». А поэтому, продолжает митрополит Николай, надо «усилить наше внимание к его развитию».
В 1960 году на должность председателя ОВЦС был назначен митрополит Никодим (Ротов), до сих пор памятный своей экуменической деятельностью. С этого момента РПЦ МП становится непосредственным и активным участником экуменического движения.
11 апреля 1961 года Патриарх Алексий I выступает с заявлением о вступлении РПЦ МП во Всемирный Совет Церквей, в котором подтверждает согласие РПЦ МП с Конституцией ВСЦ и соответствие РПЦ МП требованиям ВСЦ к вновь вступающим членам. «РПЦ МП не только всегда молилась и молится о благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, но и полна решимости нести свой вклад в великое дело христианского единства по линии бывших движений „Веры и Устройства“, „Жизни и Деятельности“ и „Международной Дружбы посредством Церквей“»[10].
Архиерейский Собор (июль 1961 г.) в своем определении по докладу митрополита Никодима одобрил вступление РПЦ МП во Всемирный Совет Церквей и, таким образом, закрепил пересмотр решений московского Всеправославного Совещания 1948 года.
Эпоха в жизни РПЦ МП с 1960 по 1978 годы, когда ОВЦС находился под руководством митрополита Никодима, известна среди противников экуменизма под названием «никодимовщины». Она характеризуется усилением контактов РПЦ МП с Ватиканом.
Этот период закончился смертью Никодима (Ротова) в 1978 году. Тем не менее, РПЦ МП, как и другие православные церкви[11], до настоящего времени является членом Всемирного Совета Церквей и активно участвует в его работе.
В заявлении Священного Синода от 20 марта 1980 года говорится следующее:
«Труды в экуменической сфере, их развитие и углубление также должны оставаться в центре внимания нашей Церкви. И, в частности, богословские диалоги с неправославными Церквами имеют целью стремление к достижению единства… Мы полагаем необходимым продолжать углублять эти диалоги… Мы считаем необходимым дальнейшее углубление участия Православной Церкви в текущей деятельности ВСЦ, а также Конференции Европейских Церквей[12] ».
На Архиерейском Соборе РПЦ МП под председательством Святейшего Патриарха Алексия II в 2000 году были приняты «Основные принципы отношения к инославию», в которых сказано, что[13]:
«Православная церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное, глубинное единство христиан якобы нарушено не было и что Церковь должна пониматься совпадающей со всем „христианским миром“, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров» (II. 4), «совершенно неприемлема и связанная с вышеизложенной концепцией так называемая „теория ветвей“, утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных „ветвей“» (II. 5), «Православная церковь не может признавать „равенство деноминаций“. Отпавшие от Церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находятся ныне, имеющиеся догматические расхождения должны быть преодолены, а не просто обойдены».
Однако, засвидетельствовав таким образом несогласие с протестантской «теорией ветвей», «Основные принципы» подчеркнули позитивную цель экуменического движения:
«Важнейшей целью отношений Православной Церкви с инославием является восстановление богозаповеданного единства христиан (Ин. 17, 21), которое входит в Божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства. Это задача первостепенной важности для Православной Церкви на всех уровнях ее бытия[14]».
«Безразличие по отношению к этой задаче или отвержение ее является грехом против заповеди Божией о единстве. По словам святителя Василия Великого, «искренно и истинно работающим для Господа надо о том единственно прилагать старание, чтобы привести опять к единству Церкви, так многочастно между собой разделенные[15].»
При этом отношение РПЦ к экуменическому движению (как отмечено в специальном приложении) формулируется следующим образом: «важнейшая цель православного участия в экуменическом движении всегда состояла и должна состоять в будущем в том, чтобы нести свидетельство о вероучении и кафолическом предании Церкви, и в первую очередь истину о единстве Церкви, как оно осуществляется в жизни Поместных православных церквей». Членство РПЦ во Всемирном Совете Церквей, говорится далее, не означает признания его церковной реальностью самого по себе: «Духовная ценность и значимость ВСЦ обуславливается готовностью и стремлением членов ВСЦ слышать и отвечать на свидетельство кафолической Истины».
Экуменизм и Католическая Церковь
После Второго Ватиканского Собора Католическая Церковь частично встала на позиции экуменизма. В частности, это отражено в энциклике папы Иоанна Павла II «Ut Unum Sint», декрете Unitatis Redintegratio, декларации Dominus Iesus и других официальных документах Католической Церкви.
В то же время католический экуменизм не предполагает «упразднения межконфессиональных различий благодаря приведению догматов всех церквей к единому компромиссному варианту — общему для всех христианскому учению». Такая трактовка экуменизма с точки зрения католичества неприемлема, так как католический экуменизм исходит из утверждения о том, что «вся полнота истины пребывает в Католической Церкви». Следовательно, что-то менять в своей догматике КЦ не может[16].
Декларация Конгрегации вероучения Католической Церкви Dominus Iesus, разъясняющая позицию католиков по данному вопросу, гласит[17]:
«Католики призваны исповедовать, что существует историческая непрерывность — укорененная в апостольской преемственности — Церкви, основанной Христом и Католической Церковью: «Это и есть единственная Церковь Христова, … которую Спаситель наш по Воскресении Своем поручил пасти Петру (ср. Ин 21,17) и ему же, как и другим апостолам, вверил ее распространение и управление (ср. Мф 28,18) и навсегда воздвиг ее как „столп и утверждение истины“ (1 Тим 3,15). Эта Церковь, установленная и устроенная в мире сем как сообщество, пребывает („subsistit in“) в католической церкви, управляемой преемником Петра и епископами в общении с ним». Словосочетанием «subsistit in» («пребывает в») II Ватиканский Собор стремился уравновесить два вероучительных высказывания: с одной стороны, что Церковь Христова, несмотря на разделения, существующие между христианами, пребывает в полноте лишь в католической церкви; с другой стороны — то, что «вне ее ограды также можно встретить множество крупиц святости и истины» (то есть в Церквах и церковных общинах, не состоящих в совершенном общении с Католической Церковью). Однако, принимая это во внимание, необходимо утверждать, что «сила их исходит от той полноты благодати и истины, которая вверена Католической Церкви».
Суть католического экуменизма состоит не в отказе от части своей догматики ради создания приемлемого для всех конфессий компромиссного вероучения, а в уважении ко всему тому в других конфессиях, что не противоречит уже имеющейся католической вере: «необходимо, чтобы католики с радостью признавали и ценили подлинно христианские блага, восходящие к общему наследию, которыми обладают отделённые от нас братья. Справедливо и спасительно признавать богатства Христовы и действия Его сил в жизни других, свидетельствующих о Христе, иногда даже до пролития собственной крови, ибо Бог всегда дивен, и надлежит восхищаться Им в Его делах»[18].
«Христианам… нельзя полагать, что Церковь Христа — просто собрание — разделенное, но, тем не менее, в чем-то единое — Церквей и церковных Общин; также нельзя считать, что в наше время Церковь Христова более нигде не пребывает, напротив, следует верить, что она — цель, к которой должны стремиться все Церкви и церковные Общины. В действительности, «элементы этой уже устроенной Церкви существуют, объединены в полноте в Католической Церкви и, без этой полноты, в других общинах[17].»
«Следовательно, хотя мы и верим, что эти Церкви и отделенные от нас общины страдают некоторыми недостатками, тем не менее они обличены значением и весом в тайне спасения. Ибо Дух Христов не отказывается пользоваться ими как спасительными средствами, сила которых исходит от той полноты благодати и истины, которая вверена Католической Церкви[17].»
«Недостаток единства христиан, безусловно, ранит Церковь; не в том смысле, что она оказывается лишенной единства, но в том, что разделение препятствует совершенной реализации ее вселенскости в истории [17].»
Декрет об экуменизме Unitatis Redintegratio подчеркивает особую близость к католичеству православных церквей, которые признаются истинными поместными Церквями с действительными Таинствами и священством. Поэтому Католическая Церковь разрешает своей пастве прибегать к Таинствам в православных церквях, если у них нет возможности сделать это в католической общине. Также и православные, при отсутствии возможности прибегнуть к Таинствах в православных общинах, допускаются к ним в католических церквях.
Более отдаленными от католичества признаются протестантские деноминации. Протестантам, при определенных условиях, также разрешается прибегать к Таинствам в католических общинах, если они исповедуют правильное с точки зрения католицизма их понимание.
Католическая Церковь не является участником Всемирного Совета Церквей и её представители состоят при нём лишь в качестве наблюдателя.
Экуменизм и Англиканская Церковь
Англиканская Церковь стоит на последовательно экуменических позициях. Ряд приходов ввели систему open communion, согласно которой в таинствах может принимать участие любой крещеный христианин, признающий догмат Троицы. На своих службах англикане молятся не только за лидеров англиканской Церкви, но и за папу Римского, православных патриархов и других христианских лидеров.
Экуменизм и Адвентисты Седьмого Дня
Церковь Адвентистов Седьмого Дня не поддерживает экуменизм как явление, примиряющее истину с грехом. Церковь Адвентистов Седьмого Дня молится за всех людей, живущих на планете, но признает сотрудничество с другими религиями только исключительно в социальной сфере.
Критика и отрицание экуменизма
Критика и отрицание экуменизма со стороны некоторых Православных церквей, групп и отдельных представителей
Архиепископ Серафим (Соболев) на московском Всеправославном Совещании (1948) сказал[19]:
«…памятуя сущность и цели экуменизма, всецело отвергнем экуменическое движение, ибо здесь отступление от православной веры, предательство и измена Христу. Экуменизм ещё не будет торжествовать своей победы, пока он не заключит все Православные Церкви в свое экуменическое вселенское кольцо. Не дадим ему этой победы!»
Различные Православные церкви, не входящие в систему мирового Православия (ИПЦ, Старообрядческие Православные церкви и согласия, Старостильные церкви и др.), могут иметь принципиально различные точки зрения на экуменическое движение. В частности, Истинно-Православные церкви считают экуменизм ересью, и Православные церкви, входящие в систему мирового Православия, соответственно, еретическими и отпадшими от Православия.[20][21][22][23]
В соответствии со своими догматическими воззрениями, ИПЦ не принимают и критикуют «Основные принципы отношения к инославию», принятые РПЦ МП.[24]
Участие РПЦ МП в экуменическом движении стало одним из основных поводов разрыва с ней бывшего епископа Диомида[25].
Экуменистические организации
[1] Гео́ргий Васи́льевич Флоро́вский – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EB%EE%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E9_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
[2] Фреска Кирилловской церкви — Флоровский монастырь – Адрес ссылки в Интернете — http://fotki.yandex.ru/users/favor/view/48653/?page=0
[3] Пещеры Китаевой пустыни – Адрес ссылки в Интернете — http://fotki.yandex.ru/users/favor/view/49491/?page=0
[4] Экуменизм – Википедия — Адрес ссылки в Интернете — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
 Эдмунд Гу́ссерль (нем. Edmund Husserl) предпринял оригинальную и последовательную попытку анализа содержания историко-философского процесса в связи с проблемами становления, развития и кризиса европейской культуры и цивилизации. Он обосновывает мнение, что под именем Европы следует понимать единство духовной жизни, творчества, деятельности с определенными целями, интересами, устремлениями, усилиями институтов и организаций. Индивиды здесь действуют в многообразных общностях различного уровня — семейных, клановых, национальных. Но все они находятся в духовной связи и единстве духовного образа. Личностям, их объединениям и всем их «культурным продуктам» придан тем самым характер всеобщей взаимосвязи.
Эдмунд Гу́ссерль (нем. Edmund Husserl) предпринял оригинальную и последовательную попытку анализа содержания историко-философского процесса в связи с проблемами становления, развития и кризиса европейской культуры и цивилизации. Он обосновывает мнение, что под именем Европы следует понимать единство духовной жизни, творчества, деятельности с определенными целями, интересами, устремлениями, усилиями институтов и организаций. Индивиды здесь действуют в многообразных общностях различного уровня — семейных, клановых, национальных. Но все они находятся в духовной связи и единстве духовного образа. Личностям, их объединениям и всем их «культурным продуктам» придан тем самым характер всеобщей взаимосвязи.
«Духовный образ Европы» представляет собой имманентную [1] историю духовной жизни Европы. Это, по Гуссерлю, философская идея, или, что то же самое, имманентная ей телеология, которая с универсальной точки зрения осознается как прорыв и начало развития новой эпохи истории человечества, которое хочет строить свое существование в соответствии с идеями бесконечного разумного бытия.
Европейские нации выработали различные типы культуры и человеческие типы. Они могут быть враждебны друг к другу, но обладают своеобразным всепроникающим и преодолевающим национальные различия беспрецедентным в истории человечества духовным родством, имеющим колоссальную силу влияния на культуры. Мотивом в непрерывном стремлении наций и народов к духовному самосохранению становится все большая европеизация. Европейское человечество, подчеркивает Э. Гуссерль, обладает врожденной энтелехией, т.е. жизненной мощью, господствующей в изменениях образа Европы, придающей ему смысл развития к идеальному образу бытия как к вечному полюсу. Народы существуют в истории как духовные сущности. У европейской супернации нет никакого достигнутого или достижимого зрелого образа как образа, наделенного закономерной повторяемостью. Духовный субстрат человечества никогда не будет завершен и никогда не сможет повториться. Духовный «телос», или цель, европейского человечества, в котором заключен особенный телос каждой нации и отдельного индивида, лежит в бесконечности мира. Это бесконечная идея, к которой сокровенным образом устремлено духовное становление бытия.
Греческая нация в VII-VI вв. до н.э. сформировала принципиально новую установку индивида по отношению к окружающему миру. Следствием ее стало рождение нового типа духовной структуры, быстро развившейся в систематически законченное культурное образование, которое греки назвали философией. В изначальном смысле, отмечает Гуссерль, философия означает универсальную науку о мировом целом, всеохватывающем единстве всего сущего. Вскоре интерес к целому, и, следовательно, вопрос о всеохватывающем становлении и бытии в становлении стал делиться по отношению к всеобщим формам и сегментам бытия. Таким образом, утверждает Гуссерль, философия как единая наука стала разветвляться на многочисленные частные науки. В возникновении такого рода философии, заключающей в себе все науки, видится изначальный феномен духовной Европы.
Историческое движение, принявшее форму европейской супернации, ориентировано на находящийся в бесконечности нормативный образ, который невозможно вывести путем внешнего морфологического наблюдения структурных перемен. С точки зрения Э. Гуссерля, постоянная направленность на норму внутренне присуща интенциональной [2] жизни личности, следовательно, и нациям как особым общностям, и, наконец, целостному организму объединенных Европой народов. Речь идет не о конкретном человеке. Эта направленность не полностью реализуется в конституируемых интерсубъективными актами личностных образованиях высшей степени. Но она, так или иначе, присуща этим образованиям и реализуется как необходимый процесс развития и распространения духа общезначимых норм. Это означает, подчеркивает философ-феноменолог, прогрессирующую перестройку всего человечества под влиянием возникших в конкретных регионах мира и ставших действенными идейных образований.
 Рис. 1. Эдмунд Гу́ссерль «(Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль) (нем. Edmund Husserl, 8 апреля 1859, Просниц, Моравия (Австрия) — 26 апреля 1938 (79 лет), Фрайбург) — немецкий философ, основатель феноменологии. Биография: Происходил из еврейской семьи. В 1876 году поступил в Лейпцигский университет, где начал изучать астрономию, математику, физику и философию, в 1878 году перешёл в Берлинский университет, где продолжил изучать математику у Л. Кронекера и К. Вейерштрасса, а также философию у Ф. Паульсена. В 1881 году изучает математику в Вене. 8 октября 1882 года защитил в Венском университете у Лео Кёнигсбергера диссертацию «К теории вариационного исчисления» и стал заниматься философией у Франца Брентано.[1] В 1886 году Гуссерль вместе с невестой принимают протестантское вероисповедание, в 1887 году оформляют брак, после чего Гуссерль устраивается преподавать в университете в Галле. Его первые публикации были посвящены проблемам основания математики («Философия арифметики», 1891) и логике («Логические исследования» I, 1900; II, 1901). «Логические исследования» становятся первой книгой нового направления философии, открытого Гуссерлем — феноменологии. Начиная с 1901 года он встречает в Геттингене и Мюнхене доброжелательную атмосферу и своих первых единомышленников (Райнах, Шелер, Пфендер). Именно в этот период он публикует программную статью в «Логосе» — «Философия как строгая наука» (1911) и первый том «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913). В 1916 году он получает кафедру во Фрайбургском университете, которую до него занимал Риккерт. Мартин Хайдеггер, самый способный ученик Гуссерля, редактирует его «Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени» (1928). Затем последовательно выходят в свет «Формальная и трансцендентальная логика» (1929), «Картезианские размышления» (по-французски, 1931), части I и II работы «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936, полный текст рукописи был издан посмертно, в 1954 году)».
Рис. 1. Эдмунд Гу́ссерль «(Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль) (нем. Edmund Husserl, 8 апреля 1859, Просниц, Моравия (Австрия) — 26 апреля 1938 (79 лет), Фрайбург) — немецкий философ, основатель феноменологии. Биография: Происходил из еврейской семьи. В 1876 году поступил в Лейпцигский университет, где начал изучать астрономию, математику, физику и философию, в 1878 году перешёл в Берлинский университет, где продолжил изучать математику у Л. Кронекера и К. Вейерштрасса, а также философию у Ф. Паульсена. В 1881 году изучает математику в Вене. 8 октября 1882 года защитил в Венском университете у Лео Кёнигсбергера диссертацию «К теории вариационного исчисления» и стал заниматься философией у Франца Брентано.[1] В 1886 году Гуссерль вместе с невестой принимают протестантское вероисповедание, в 1887 году оформляют брак, после чего Гуссерль устраивается преподавать в университете в Галле. Его первые публикации были посвящены проблемам основания математики («Философия арифметики», 1891) и логике («Логические исследования» I, 1900; II, 1901). «Логические исследования» становятся первой книгой нового направления философии, открытого Гуссерлем — феноменологии. Начиная с 1901 года он встречает в Геттингене и Мюнхене доброжелательную атмосферу и своих первых единомышленников (Райнах, Шелер, Пфендер). Именно в этот период он публикует программную статью в «Логосе» — «Философия как строгая наука» (1911) и первый том «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913). В 1916 году он получает кафедру во Фрайбургском университете, которую до него занимал Риккерт. Мартин Хайдеггер, самый способный ученик Гуссерля, редактирует его «Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени» (1928). Затем последовательно выходят в свет «Формальная и трансцендентальная логика» (1929), «Картезианские размышления» (по-французски, 1931), части I и II работы «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936, полный текст рукописи был издан посмертно, в 1954 году)».
Идеи, свойственные человеку смысловые структуры уникального типа, скрывающие в себе интенциональные бесконечности, представляют собой нечто совершенно иное, чем реальные вещи в пространстве, которые, вступая в поле человеческого опыта, тем самым не становятся значимыми для человека как личности. Создав первую концепцию идеи, человек становится абсолютно новым существом. Его духовное бытие вступает на путь постоянного обновления. Первоначально, отмечает Гуссерль, это коммуникативное движение. Формируется новый стиль жизни личности в своей среде, а в подражании и понимании — соответствующее новое становление. Сначала в рамках движения (а в дальнейшем и помимо него) возникает и распространяется «особое человечество», которое, живя в конечном мире, стремится к полюсу бесконечности. Одновременно формируются новый способ создания социальных связей и отношений и новая форма постоянно существующих общностей. Их духовная жизнь несет в себе благодаря любви к идеям, производству идей и идеальному нормированию жизни бесконечность в горизонте будущего: бесконечность поколений, обновляющихся под воздействием идей.
Это происходит первоначально в духовном пространстве греческой нации как развитие философии и философских сообществ. Вместе с тем, подчеркивает мыслитель-идеалист, в этой нации складывается «всеобщий дух культуры», влекущий к себе все человечество. Так происходит прогрессирующее преобразование общностей в форму новой историчности.
 Рис. 2. «Фрайбургский дом Э. Гуссерля, где он жил с июля 1937 года до своей смерти. В апреле 1933 года Хайдеггер, избранный ректором Фрайбургского университета, одним из первых указов, в соответствии с «Законом о восстановлении профессионального чиновничества»[2], уволил всех сотрудников еврейского происхождения, в том числе и своего учителя Гуссерля. Гуссерлю было запрещено участвовать в философских конгрессах 1933 и 1937 годов как официально, так и частным образом; его старые книги не изымались из библиотек, но издание новых было невозможно. Несмотря на враждебность, которой окружил его нацистский режим, Гуссерль не эмигрировал (его дети выехали в США). Он умер во Фрайбурге в 1938 году от плеврита почти в полном одиночестве. Бельгийский монах-францисканец, аспирант Высшего института философии Германн Лео Ван Бреда, опасаясь гитлеровского антисемитизма, перевез в Лувен библиотеку и неизданные работы Гуссерля, а также помог выехать из Германии вдове и ученикам философа. Если бы не вмешательство Ван Бреды, вдове Гуссерля грозила бы депортация в концлагерь, а его архиву — конфискация и гибель[3]. Так в Лувене был основан Гуссерль-Архив — центр изучения наследия Гуссерля, существующий до сих пор. Разобранный архив Эдмунда Гуссерля в Лувене насчитывает сорок тысяч неизданных листов (частично стенограммы), которые публикуются в полном собрании сочинений — Гуссерлиане».
Рис. 2. «Фрайбургский дом Э. Гуссерля, где он жил с июля 1937 года до своей смерти. В апреле 1933 года Хайдеггер, избранный ректором Фрайбургского университета, одним из первых указов, в соответствии с «Законом о восстановлении профессионального чиновничества»[2], уволил всех сотрудников еврейского происхождения, в том числе и своего учителя Гуссерля. Гуссерлю было запрещено участвовать в философских конгрессах 1933 и 1937 годов как официально, так и частным образом; его старые книги не изымались из библиотек, но издание новых было невозможно. Несмотря на враждебность, которой окружил его нацистский режим, Гуссерль не эмигрировал (его дети выехали в США). Он умер во Фрайбурге в 1938 году от плеврита почти в полном одиночестве. Бельгийский монах-францисканец, аспирант Высшего института философии Германн Лео Ван Бреда, опасаясь гитлеровского антисемитизма, перевез в Лувен библиотеку и неизданные работы Гуссерля, а также помог выехать из Германии вдове и ученикам философа. Если бы не вмешательство Ван Бреды, вдове Гуссерля грозила бы депортация в концлагерь, а его архиву — конфискация и гибель[3]. Так в Лувене был основан Гуссерль-Архив — центр изучения наследия Гуссерля, существующий до сих пор. Разобранный архив Эдмунда Гуссерля в Лувене насчитывает сорок тысяч неизданных листов (частично стенограммы), которые публикуются в полном собрании сочинений — Гуссерлиане».
Продукты науки, когда разработаны успешные методы их производства, обретают специфический способ бытия, своеобразное временное измерение. Они непреходящи. Создавая их вновь, создают не нечто похожее, употребимое в том же роде. В любом количестве повторений создается по отношению к одному и тому же человеку и к любому множеству людей тождественное себе то же самое, тождественное по смыслу и значению. Связанные практическим взаимопониманием люди не могут не воспринимать то, что изготовили другие, точно таким же способом, как они сами, в качестве тождественного того же, что их собственное изделие. Поэтому, делает вывод идеалист-феноменолог, продукт науки не реальное, а идеальное образование. Более того, приобретенное таким образом может как значимое, истина, материал служить возможному производству «идеальностей» высшего порядка, и так вновь и вновь. С точки зрения развитого теоретического интереса то, что первоначально понимается как относительная конечная цель, оказывается переходом ко все новым и новым, более высоким, целям, и бесконечности, обозначаемой как универсальное поле приложения сил, «область» науки. Следовательно, наука есть не что иное, как идея бесконечности задач, постоянно исчерпывающих конечное и сохраняющих его непреходящую значимость. Последнее Гуссерль называет фондом предпосылок, которые образуют бесконечный горизонт задач как единство всеобъемлющей задачи.
С позиций мыслителя — феноменолога, в науке идеальный характер ее единичных продуктов, истин, не означает простой возможности воспроизведения с точки зрения чувственной проверки. Идея истины, подчеркивает он, в научном смысле порывает с истиной донаучной жизни. Она желает быть безусловной истиной. В этом заключается бесконечность, придающая любой фактической проверке истины характер относительности, простого приближения. Это соотносится с бесконечным горизонтом, в котором истина в себе обозначается в виде бесконечно дальней точки. Соответственно бесконечность реализуется в научном понимании «реально сущего», а также в «общезначимости для каждого» как субъекта обосновывающей деятельности. Это уже не просто «каждый» в конечном понимании донаучной жизни.
Э. Гуссерль, пытаясь осмыслить своеобразную идеальность науки, в содержание которой включаются идеальные многообразные бесконечности, при историческом обзоре ее развития прослеживает очевидное для него противоречие, которое с современной точки зрения можно назвать культурологическим, поскольку речь идет о культурных процессах, рассматриваемых с точки зрения их генезиса. Он выражает это противоречие, или, по его терминологии, контрастность, следующим образом: в историческом горизонте до становления греческой философии не существовало культурной формы, которая была бы культурной идеей в феноменологическом смысле, знала бы бесконечные задачи, создаваемые человеком идеальные вселенные, которые в целом и в своих составляющих, а также в методах деятельности заключали бы в себе смысл бесконечности.
Вненаучная, еще не затронутая наукой культура с предполагаемыми в ней идеальными многообразными бесконечностями является задачей и продуктом деятельности человека в конечном измерении. Бесконечный горизонт, в котором существует человек, в известном смысле не замкнут. Человеческие труды и цели, достижения и деятельность, личные, групповые, национальные, мифологические мотивации — все осуществляется в конечном, обозримом окружающем мире. Здесь нет бесконечных задач, идеальных достижений, бесконечность которых становится сферой приложения сил, причем таким образом, что сознанию «трудящегося» оно представляется способом существования бесконечного множества актуальных проблем, требующих практического решения.
С появлением греческой философии и ее первым «формоопределением» в последовательной идеализации нового смысла бесконечности происходит имеющее колоссальные последствия перспективное преобразование, которое в конечном счете вовлекает в свой круг все идеи конечного, и поэтому всю духовную культуру человечества. В эпоху Нового времени у европейцев появляется множество бесконечных целей и вне философско-научной сферы, однако аналогичным характером своей бесконечности (перспективные сверхзадачи, цели, проверки, истины, «истинные ценности», «подлинные блага», «абсолютно» значимые нормы) они обязаны, подчеркивает мыслитель-идеалист, преобразованию человечества философией с ее идеальностями. Научная культура, развивающаяся под знаком бесконечности, предполагает «революционизирование» всей культуры, «революционизирование всего культуротворящего способа существования человечества». Она означает и революционизирование историчности, которая не только в гносеологическом, но и в онтологическом смысле может интерпретироваться как история исчезновения « конечного человечества» и становление «человечества бесконечных задач».
Во многом традиционная для своей эпохи, в значительной степени европоцентристская по общекультурной и мировоззренческой ориентации историко-философская концепция Э. Гуссерля исходит из предпосылки, что установки философов Греции и Востока, универсальная направленность их интересов в корне различны. Он отмечает, что можно констатировать общий интерес к постижению мира в целом, который в обоих основных вариантах, т.е. в индийских, китайских и других философиях ведет к попыткам создания универсальной теории познания действительности. Заслугой философа является попытка разработки социокультурных аспектов проблемы формирования и развития теоретического и научного знания. Теоретический универсализм повсюду выражается в форме профессионального жизненного интереса и в силу очевидной мотивации ведет к организации профессиональных сообществ, где от поколения к поколению передаются и соответственно развиваются результаты развития знания, ориентированного на постижение всеобщности мира. Но только у греков обнаруживается последовательный универсальный («космологический») жизненный интерес в новой форме теоретической установки. Это проявилось, по внутренним причинам, в создании новых форм общности философов и ученых, творящих математику, астрономию и другие научные знания. Это люди, трудящиеся не только индивидуально, но и сообща, связанные совместной работой. Целью их устремлений становится чистая, последовательная и строгая теория, деятельность по ее воспроизводству. Развитие и постоянное совершенствование теории благодаря расширению круга сотрудничающих и сменяющихся поколений ученых сознательно рассматривается как бесконечная и универсальная задача.
Большой заслугой Гуссерля является разработка категории теоретической установки, имеющей большое значение для анализа и интерпретации содержания истории научной мысли, и, прежде всего, ее мировоззренческих смыслов не только в философско-социологическом, но и культурологическом аспектах. Немецкий философ одним из первых предпринял попытку исследования становления и развития ментальностей. Под установкой в его концептуальных построениях понимается привычно устойчивый стиль волевой жизни конкретных людей, интегрированных в сообщества, с заданностью устремлений, интересов, конечных целей и усилий творчества, общий стиль которого тем самым также предопределен. В этом пребывающем стиле как в нормальной форме развертывается любая жизнедеятельность. Конкретные содержательные элементы реальных жизненных явлений и процессов изменяются в относительно замкнутой историчности. Человечество (соответственно и закрытые, в определенном смысле, сообщества, т.е. нация, род и т.д.) в реальной исторической ситуации всегда живет в какой-либо установке. Его жизнь всегда характеризуется определенным нормальным стилем, в котором складывается постоянство историчности как развития.
Следовательно, заключает мыслитель, теоретическая установка во всей ее новизне, соотнесенная с предшествующей, считающейся нормальной, предполагает переориентацию, смену установки. Универсальное наблюдение историчности человеческого существования во всех формах общности и во все эпохи показывает, что первичной в себе и для себя оказывается конкретная установка, т.е. первая историчность определяется фиксируемым нормальным стилем человеческого существования. В его рамках любой фактически нормальный стиль культуротворчества при всех своих взлетах, падениях и стагнации остается формально тем же самым. В этой связи говорится о естественной установке, т.е. установке изначально естественной жизни, о первой изначально естественной форме культур — высших и низших, развивающихся или стагнирующих. Поэтому все другие установки по отношению к естественной предполагают факт смены установки. Конкретизируя свою мысль, немецкий мыслитель указывает, что в одной из исторически фактических человеческих общностей, существующих в границах естественной установки, в силу конкретных внешних и внутренних обстоятельств в определенный момент времени должны сложиться мотивы, первоначально побуждающие отдельных индивидов и группы внутри этой общности к смене установки.
Э. Гуссерль пытается конкретно определить социокультурные основы этой изначальной установки, характеризующую исторически фундаментальный способ человеческого существования. Самоочевидно, что, будучи рожденными, люди живут в семейных, родовых, национальных общностях. Последние, в свою очередь, в большей или меньшей степени дифференцированы на особые сообщества. Естественная жизнь при этом характеризуется как «наивная» благодаря своей вжитости в мир, который всегда определенным образом осознан как наличествующий универсальный горизонт, но не тематизирован. Тематизированным становится то, на что человек обращен и направлен. Жизнь бодрствующего человека всегда предполагает направленность на конкретный объект как на цель или средство, важное или неважное, интересное или безразличное, личное или общественное, предписанное повседневностью или возбуждающее новое. Все это умещается в горизонте мира. Необходим, однако, особенный мотив, чтобы ориентировки и объекты, имеющие актуальный, реальный и конкретный жизненный смысл, в результате перемены установки стали не самоочевидными, потребовали понимания, привлекли к себе устойчивый интерес. Отдельные личности, переменившие установку, и в дальнейшем сохраняют как члены универсальной жизненной общности (своей нации) собственные естественные интересы, каждый — свой индивидуальный интерес. Люди в этой ситуации не могут просто утратить свои актуальные интересы, перестать быть самими собой, теми, кем они являются от рождения. В любых обстоятельствах смена установки может быть только временной. Привычной, значимой установка на протяжении последующей жизни сможет стать лишь в форме безусловного волевого решения. Однако периодически, на внутренне связанные между собой моменты времени, установка возобновляется. Свойственный ей новый род интересов будет благодаря интенциональной преемственности, связывающей эти дискретные моменты, сохраняться как значимый и действенный, реализовываться в соответствующих реальных произведениях культуры. Это наблюдается, в частности, в сфере профессиональной деятельности в изначально естественной жизни культурной общности, где существует профессиональное понимание и бытие временных норм, пронизывающих всю жизнь с ее реальной временностью. Возможны, отмечает немецкий мыслитель, только два случая. С одной стороны, интересы новой установки могут служить естественным жизненным интересом, или, что то же самое, интересам естественной практики. В этих обстоятельствах она может быть осмыслена как близкая практической установке политика, который, будучи функционером нации, ориентирован на всеобщее благо, следовательно, хочет служить всеобщей (а опосредованно и своей собственной) практике. Все это относится и к области естественной установки, которая существенно дифференцирована по отношению к различным типам членов общества. В действительности для правящих она оказывается иной, чем для «граждан». Эта аналогия позволяет понять, что универсальность практической установки здесь направляется на целый мир. Она не должна означать заинтересованности и включенности во все частности и единичные структуры внутри мира, что было бы немыслимо. Наряду с практической установкой высшего уровня существует еще одна возможность изменения всеобщей естественной установки: теоретическая установка. Она названа так заранее, ибо в ней в ходе естественного развития вырастает философская теория, становящаяся целью или полем интереса. Теоретическая установка, хотя тоже является профессиональной установкой, целиком и полностью непрактична. Она основывается на волевом самообладании по отношению ко всей естественной, в том числе и высокого уровня, практике в рамках своей профессиональной жизни. Здесь речь не идет об окончательном «отгораживании» теоретической деятельности от практической, т.е. расчленении реальной жизни теоретика на две не соединенные друг с другом самоутверждающиеся жизненные преемственности. Это в социальном смысле означало бы возникновение двух духовно не соединенных культурных сфер. Возможна еще третья форма, наряду с фундированной естественной религиозно-мифологической установкой, а именно: осуществляющийся на переходе от теоретической к практической установке синтез, где оформившаяся в замкнутом единстве и воздерживающаяся от всякой практики теория (универсальная наука) призывается (и в теоретическом смысле сама определяет свое призвание) к новому служению человечеству, изначально живущему и продолжающему жить в конкретности своего существования. Это происходит в форме новой практики — универсальной критики всей жизни и всех жизненных целей, всех порожденных жизнью человечества культурных образований и систем культуры, и, тем самым, критики самого человечества и руководящих им, отчетливо или неотчетливо выраженных, ценностей. В процессе развития эта практика должна силой универсального научного разума привести человечество к нормам истины во всех ее формах, сделать человечество совершенно новым, способным на основе абсолютных теоретических воззрений стать абсолютно ответственным перед самим собой. Однако этому синтезу теоретической универсальности и универсально ориентированной практики предшествует, по-видимому, другой синтез теории и практики, а именно использование частных результатов теории, результатов, «отпавших» от универсального теоретического разума в специализацию частных наук в практике естественной жизни. Здесь изначально естественная и теоретическая установка оказываются связанными в конечном измерении бытия.
Для углубленного понимания европейской науки, берущей начало от греческой культуры, которую Гуссерль в целом практически отождествляет с философией, в ее принципиальном отличии от равноценных восточных философий, считается необходимым объяснение и интерпретация как религиозно-мифологической универсальной практической установки, вырабатываемой всеми предшествующими науке Запада философскими учениями. Религиозно-мифологические мотивы и религиозно-мифологическая практика были свойственны, до эпохи возникновения греческой философии, а тем самым и научного мировоззрения, всему естественно живущему человечеству. Мифо-религиозная установка состоит в том, что мир тематизируется как целостность, а именно тематизируется практически. Под миром здесь понимается естественно, конкретно-традиционным образом данный человечеству или общности представляемый мир. Это мир «мифологической апперцепции». К мифо-религиозной установке изначально относятся не только люди и животные, дочеловеческие и доживотные существа, но и сверхчеловеческие создания. Взгляд, охватывающий их как единство, практичен, но не в том смысле, что человек, для которого в его естественной жизни актуальны лишь особенные реальности, вдруг осознал бы, что для него все одновременно стало равно практически релевантным. Однако, поскольку весь мир считается управляемым мифическими силами, и от способа их действия зависит, прямо или опосредованно, судьба человека, универсально-мифическое видение мира оказывается побужденным практикой, а впоследствии и само практически заинтересованным. В этой религиозно-мифической установке нуждается, прежде всего, жречество, сохраняющее единство религиозно-мифических интересов и практики. В жреческой среде возникает и распространяется глубоко запечатленное в языке «знание» о мифических силах, в прямом смысле лично прочувственных. Оно как бы само собой принимает форму мистической спекуляции, которая выступает как наивно убедительная интерпретация познавательной деятельности, и перестраивает миф. При этом не упускается из виду и остальной, управляемый мифическими силами мир, и все относящиеся к нему человеческие и дочеловеческие существа (которые неустойчивы в своем самосущностном бытии и открыты воздействию мифических моментов), как они сами управляют событиями этого мира, как включают себя в единый порядок высшей власти, как сами, в единичных функциях и функционерах, творчески, деятельно существуют в границах предназначенной им судьбы. Это спекулятивное знание ставит себе целью служение человеку в его человеческих целях, чтобы возможно более счастливо построить свою мирскую жизнь, защищаться от судьбы и смерти. В этом мифо-практическом созерцании и познании мира могут выступать и представления о фактическом мире, каким он выглядит для научного опытного знания. Поэтому мифологические представления могут в дальнейшем использоваться наукой. Однако в своей собственной смысловой связи они остаются мифо-практическими. По мнению Гуссерля, когда человек, воспитанный в духе созданного в Греции и развитого в Новое время научного образа мышления, начинает интерпретировать индийскую и китайскую философию и науку, и, следовательно Восток, он неадекватен в понимании этого жизненного мира.
От универсальной, но мифо-практической установки резко отличается в любом смысле непрактическая «теоретическая» установка, из которой гиганты первого кульминационного периода греческой философии, Платон и Аристотель, выводили начало философского мышления. Человека охватывает страсть к созерцанию и познанию мира, свободная, по мысли немецкого философа, от всяческих практических интересов. В замкнутом кругу познавательных действий и посвященного ему времени творится чистая теория. Человек становится незаинтересованным наблюдателем, созерцающим мир, и в этой духовной ситуации он превращается в философа. Вернее, делает существенную оговорку Гуссерль, человеческая жизнь мотивируется новыми, лишь в этой установке возможными целями и методами мышления, и в конечном счете возникает философия, поскольку человек становится философом.
Рождение теоретической установки, как и все исторически ставшие феномены, имеет свою фактическую мотивировку в конкретной связи исторических событий. В способах существования и жизненном горизонте греков УП в. до н.э., в их взаимоотношениях с великими и высококультурными нациями мира, могло укорениться и установиться первоначально в отдельных умах то самое необходимое для философии и науки «удивление», которое отмечали великие мыслители. В историко-философской концепции Э. Гуссерля для исследователя важно понять способ мотивировки, осмысления и создания смысла, который путем простого изменения установки, т.е. через « удивление», пришел к теории. Но этот исторический факт должен иметь сущностную природу. Первоначальная теория из полностью «незаинтересованного», отделенного от всякого практического интереса созерцания мира стала научной теорией, точнее, теорией собственно науки. Это превращение опосредовано различением мнения и знания. Возникающий теоретический интерес, «удивление» интерпретируется как модификация любопытства, изначальное место которого находится в естественной жизни. Это объясняется как участие в «жизни всерьез», проявление изначально выработанного интереса к жизни или как развлечение зрелищем. Когда все непосредственные жизненные потребности удовлетворены, это уже интерес, отстраняющийся от эмпирии, пренебрегающий опытом. Интерес, ориентированный таким образом, первоначально обращается к многообразию национальной жизни, понимая богов, традиции, мифические силы своей и других наций как самоочевидный реальный мир. Актуальна идея, что теоретическое мышление высшего уровня предполагает выход за пределы наличного материального и духовного бытия с его не только естественными, но и квазиестественными формами, роль которых в культурных процессах имеет тенденцию возрастания, прежде всего, в условиях кризиса рефлексии.
В этом «контрасте», т.е. противоречии становящегося сознания, возникает различение представления о мире и реального мира. Здесь встает вопрос об истине, но не указанной традицией истиной повседневности, а об истине общезначимой, тождественной для всех, кто не ограничивается принципами традиционализма, т.е. об истине самой по себе. Теоретическая установка философа предполагает также, что он с самого начала решает свою будущую жизнь универсальной жизнью, смысл и задача которой — теория, бесконечное надстраивание теоретического познания.
Э. Гуссерль утверждает, что в отдельных личностях, таких, как Фалес, возникает новое человечество — люди, которые профессионально созидают философскую жизнь, т.е. философию как новую форму культуры. Возникает соответствующий новый тип обобществления знания. Идеальное образование – теория — воспринимается и перенимается посредством подражания и обучения. Вскоре здесь возникает феномен совместной работы и взаимопомощи посредством критики. В философской среде просматриваются необычные дела, стремления и действия, удивляющие посторонних. В попытках понимания они либо превращаются в философов, либо, если они слишком связаны профессиональной деятельностью, в посредников. В таких обстоятельствах философия распространяется двояким образом: как ширящееся сообщество философов и как сопутствующее образовательное общественное движение. Немецкий мыслитель поднимает важнейшие проблемы, имеющие культурологический смысл—причины становления теоретического знания в определенной культурной среде, социокультурные обстоятельства, детерминанты и факторы развития философии как формы культуры и ее рефлексии в границах и рамках конкретной цивилизации.
В этих культурных процессах Гуссерль видит истоки будущего коренного процесса внутреннего раскола единой нации, которую он в духе современной социальной культурологии понимает как социокультурную общность, на образованных и необразованных. Эта тенденция не ограничивается пределами конкретного общества. В отличие от культурных явлений, сформировавшихся в прошлые эпохи, философское движение не связано непосредственно с почвой национальной традиции. Представители других наций учатся понимать мир и участвуют в мощном преобразовании культуры, исходящем от философии. Философия, распространяющаяся в форме исследований и образования, оказывает двоякого рода духовное воздействие на общество. С одной стороны, самое важное в теоретической установке «философского человека» — подлинная универсальность критической позиции и решимость не принимать без вопросов ни одного готового мнения, ни одной традиции, чтобы одновременно вопрошать всю заданную предшествующей культурой вселенную об истине самой по себе, об идеальности. Но это не просто новая познавательная позиция. Благодаря требованию подчинить всю эмпирию идеальным нормам, а именно нормам безусловной истины, вскоре происходят далеко идущие перемены в совокупной практике человеческого существования, следовательно, во всей культурной жизни. Она должна теперь удовлетворять нормам объективной истины, а не традициям и наивного опыта повседневности. Таким образом, идеальная истина становится абсолютной ценностью, влекущей за собой, при посредстве образовательного движения и в постоянстве воздействий при воспитании, универсально преобразованную практику. Если идея истины самой по себе становится универсальной нормой всех существующих в человеческой жизни относительных истин, то это относится ко всем традиционным нормам — нормам права, красоты, целесообразности, ценности личности властителей, человеческих характеров и т.д. Так возникает параллельно с созиданием новой культуры особое человечество и особое жизненное призвание. Философское познание реальности производит особое мироотношение, постепенно проявляющееся во всей практической жизни со всеми ее потребностями и целями — целями исторической традиции, в которую человек включен, и значимыми лишь в ее свете. Возникает новое, внутреннее сообщество, сообщество чисто идеальных интересов, сообщество людей, живущих философией, объединенных преданностью идеям, которые не только всем практически полезны, но и всем принадлежат. Неизбежно в философской среде вырабатывается и особый продукт жизнедеятельности сообщества — результат совместной работы и критической взаимовыручки — чистая и безусловная истина как общее достояние.
Через понимание того, что здесь ищут и к чему стремятся, неизбежно проявляется тенденция к «размножению», или возрастанию интереса, т.е. тенденция включения в сообщество философствующих все новых прежде не философствовавших личностей. Первоначально это происходит в рамках «своей» нации. Распространение философии не может происходить исключительно в форме профессионального научного исследования. Оно необходимо идет дальше профессиональной сферы—как образовательное движение, воспитание. Это движение охватывает высшие слои нации, властвующих, менее озабоченных преодолением жизненных трудностей. Оно не просто ведет к равномерному преобразованию нормальной, в целом, удовлетворительной национальной и государственной жизни, но и с большей долей вероятности порождает внутренние расколы в обществе, в результате чего жизнь и национальная культура оказываются на переломе. Последователи консервативной традиции и философские сообщества вступают в борьбу друг с другом, которая отражается в сферах политической жизни, прежде всего во властных отношениях. Преследования философов обычно начинаются с начала появления философских сообществ, и мотивируются недовольством преданностью мыслителей идеям. Но идеи оказываются сильнее «эмпирических» властей. Философия, выросшая из универсальной критической установки по отношению ко всему традиционно данному, в своем распространении не ограничивается национальными границами. Должна существовать способность к универсальной критической установке, что предполагает высокий уровень донаучной культуры. Раскол национальной культуры воспроизводится прежде всего потому, что развивающаяся универсальная наука становится общим достоянием до определенной эпохи чуждых друг другу наций. Единство научных и образовательных сообществ пронизывает и интегрирует национальную и общественно-политическую жизнь передовых государств.
В отношении философии к традиции должны быть учтены две возможности. Либо традиционно важное должно быть отброшено целиком и полностью, либо его содержание должно быть воспринято, переработано и оформлено философией в духе теоретической реальности. Исключительный случай представляет собой религия. Э. Гуссерль здесь не имеет в виду политеистические религии, и сознательно суживает понятие религиозного. Боги во множественном, мифические владыки любого рода — это предметы среды, столь же действительные, как люди. В понятии Бога важно единственное число. В человеческом плане ему свойственно быть переживаемым, в его бытийной и ценностной значимости, как внутреннее и абсолютно обязательное состояние бытия. Здесь уже близко до смешения и отождествления данной абсолютности с абсолютностью философской идеальности. В общем процессе идеализации, исходящей от философии, Бог становится логической реальностью, превращается в носителя абсолютного Логоса. Логическое Гуссерль видит уже в том, что религия посредством теологии утверждает и пытается доказать самоочевидность веры как подлинного и глубинного способа обоснования истинного бытия. Национальные боги всегда «налицо», как реальные факты окружающего мира.
В концепции Гуссерля предпринимиается попытка объяснения исторической мотивации, объясняющей, как «пара греческих чудаков» смогла начать процесс преобразования человеческого существования и культурной жизни сначала своей собственной, а потом ближайших соседних наций. Из этого возникла «сверхнациональность» совсем иного рода. Здесь имеется в виду духовный образ Европы. В истории существовало не только соседство наций, воздействующих друг на друга торговлей и вооруженной борьбой. Новый, порожденный философией и ее отдельными науками дух свободной критики, ориентированный на бесконечные задачи, начинает господствовать над человечеством, творит новые, бесконечные идеалы. Есть идеалы отдельных людей, существующих в каждой нации, есть идеалы самих наций. Но существуют бесконечные идеалы во все большей степени расширяющегося и углубляющегося синтеза наций. В этот синтез каждая из соединенных наций вкладывает лучшее, что у нее есть, обретенное благодаря стремлению в духе бесконечности ставить собственные идеальные задачи. Даруя и принимая, сверхнациональное целое со всеми своими социумами разного уровня восходит все выше, исполненное духом безмерной, расчлененной на множество бесконечности, но все же единой бесконечной задачи. В этой идеально сконструированной социальной реальности философия продолжает выполнять ведущую функцию и решать собственную бесконечную задачу—функцию свободной и универсальной теоретической рефлексии. Она охватывает все идеалы и всеобщий идеал—«универсум всех норм».
Гуссерль считает, что философия во все времена должна выполнять в европейском человечестве свою основную функция — быть архонтом всего человечества. Вместе с тем реабилитация рационализма, «просвещенчества», интеллектуализма, которые уже давно впали в теоретизирование, и имеют своим следствием своеобразную манию «образовательства», в ХХ веке выглядит неуместным. По крайней мере дискуссионным выглядит вопрос о высшей мудрости науки, и ее основном предназначении—создании осознавшего свою историческую судьбу самоудовлетворенного человечества. Немецкий философ убежден, что кризис Европы коренится в заблуждениях рационализма, воспроизводящихся в научной теории XVII-XIX вв. Однако, по его мнению, это не означает, что рациональность сама по себе представляет абсолютное зло или играет подчиненную роль по отношению к целостности человеческого существования. Рациональность в том подлинном высоком смысле, в каком мы ее понимаем, т.е. знание, зародившееся в Древней Греции, ставшее идеалом в классическую эпоху эллинского философствования и нуждающееся в рефлексивных прояснениях, призвана в зрелом виде руководить развитием философии и науки. Процессы последовательного развития рациональности и ее теоретического оформления наметились в немецком идеализме. Форма развития рацио, сложившаяся в рационализме эпохи Просвещения, представляет собой заблуждение, хотя и вполне понятное. Философский разум представляет собой новую ступень в развитии человеческого разума. Ступень человеческого существования и идеального нормирования бесконечных задач, ступень существования с точки зрения вечности возможна лишь в абсолютной универсальности, именно в той, которая с самого начала возникновения теории заключена в идее философии. Универсальная философия с отдельными науками, по мысли Гуссерля, представляет собой «частичное» явление европейской культуры. Но эта часть может быть представлена в теории как распоряжающийся развитием культуры мозг, от нормального функционирования которого зависит подлинная, «нормальная» европейская духовность. Поэтому для достижения высшей гуманности и разумности человечеству необходима подлинная, преодолевшая склонность к абстрактному теоретизированию современная философия. В историко-философской концепции мыслителя-феноменолога предпринимаются оригинальные попытки отделения философии как исторического факта своего времени от философии как идеи бесконечной задачи. С его точки зрения, любая исторически действительная философия является более или менее удачной попыткой воплотить руководящую идею бесконечности и даже универсальности истины. Практические идеалы, созерцаемые как вечные полюсы, от которых человек не смеет отклониться всю свою жизнь без чувства вины, воплотившись в образы, страдают недостатком ясности и отчетливости, но предвосхищаются в многозначной всеобщности. Определенность возникает лишь в конкретном понимании и по крайней мере относительно удавшегося практического действия. Здесь видится постоянная угроза впадения в односторонность и временное успокоение, содержащих развивающиеся противоречия. Из этой ситуации мыслитель выводит противоречивость, или, по его выражению, контраст между великими претензиями философских систем, в то же время несовместимых друг с другом. К этому добавляется необходимость и одновременно опасность специализации.
Односторонний рационализм представляет собой потенциальное зло. Из самой сущности разума выводится ситуация, в которой философы могут понимать и обсуждать свою бесконечную задачу первоначально лишь в абсолютно неизбежной односторонности. Само по себе это не ошибка и не искажение реальности, ибо на необходимом пути мышления можно видеть лишь одну сторону задачи, в первые моменты не замечая, что сама бесконечная задача теоретического познания всего сущего имеет много сторон. Если неясности и противоречия свидетельствуют о несовершенстве интеллектуальных действий, то здесь начинается универсальная рефлексия. Философ должен постоянно иметь в виду истинный и целостный смысл философии, единство ее бесконечных горизонтов. Ни одно направление исследования, ни одна частная истина не должна изолироваться и абсолютизироваться. Только в этом высшем самосознании, которое само становится направлением бесконечных задач, может философия исполнить свою функцию правильной ориентации на собственное предназначение, и, тем самым, на подлинные смыслы человечества. Понимание этого принадлежит сфере философского познания на уровне высшей саморефлексии. Лишь в силу постоянной рефлексии философия приходит к универсальному познанию мира.
По мысли Э. Гуссерля, путь философии с необходимостью пролегает через человеческую наивность. Это именно тот пункт, на который направлена критика традиционной философии со стороны, в частности, популярного среди интеллектуалов иррационализма. В этом пункте обнаруживается наивность того рационализма, который обычно отождествляется с философской рациональностью вообще, и характеризует, с эпохи Ренессанса, и всю философию Нового времени, понимается как подлинный, и, следовательно, универсальный рационализм. В этом начале необходимой наивности как бы застряли все, даже начавшие развиваться в древности, науки. Эта наивность может быть обозначена общим именем — объективизм, проявляющийся в различных формах натурализма и натурализации духа. Старые и новые философские теории были и остаются наивно объективистскими. Вышедший из Канта немецкий идеализм стремился преодолеть эту ставшую чересчур явной наивность, не сумев достичь решающей для нового образа философии и европейского человечества ступени высшей рефлексии.
Естественный человек (дофилософской эпохи) во всех своих чувствах, мыслях и действиях ориентирован на мир. Поле его жизни и деятельности — пространственно-временной окружающий мир, в который он включает и самого себя. Это справедливо и для теоретической установки, которая первоначально может быть лишь установкой наблюдателя мира, который демифологизируется. Философия видит мир как «универсум сущего». В этой познавательной ситуации мир вообще превращается в объективный мир, противостоящий представлениям о мире, многообразным, национально и субъективно обусловленным. Истина, следовательно, становится объективной истиной. Поэтому философия начинает свое существование как космология. Первоначально философия направляет теоретический интерес на телесную природу. Это как будто, разумеется, само собой, поскольку все данное в пространстве-времени в любом случае, даже в скрытых основах, имеет формулой своего существования телесность. Люди и животные не просто тела. Взгляду, направленному на окружающий мир, они являются как нечто телесно сущее, следовательно, как реальности, включенные в универсальную пространство-временность. Поэтому любые душевные явления, явления «Я» — переживания, мышление, желания — характеризуются определенной объективностью. Жизнь сообществ, таких, как семья, народы и т.д., видится сведенной к жизни отдельных индивидов как психофизических объектов. Духовная связь, благодаря психофизической каузальности, лишается чисто духовной преемственности. Физическая природа вторгается всюду. Эта установка на физический мир определила исторический путь развития человека. Уже беглое обозрение обнаруженной в окружающем мире телесности свидетельствует, по мнению феноменолога, о том, что природа есть гомогенное всеобъемлющее целое, мир для себя. Существует природный мир, пронизанный гомогенной пространство-временностью, поделенный на единичные объекты, равные друг другу как вещи протяженные и взаимообусловленные. Вскоре на основе этого понимания мира делаются великие открытия. Конечность природы вопреки ее явной объективной неограниченности оказывается теоретически преодоленной. Бесконечность открыта сначала в форме идеализации величин, мер, чисел, фигур, полюсов, плоскостей и т.д. Природа, пространство, время в идеальности простираются в бесконечность и в идеальности бесконечно делимы. Из землемерного искусства рождается геометрия, из искусства счета—арифметика, из повседневной механики—математическая механика. Наглядный мир природы превращается в математический мир, мир математического естествознания, причем это происходит без сознательного формулирования гипотез. Древность подала великий пример для философии и науки: одновременно с математикой впервые в истории открываются бесконечные идеалы и бесконечные задачи. Этот факт, по мысли Гуссерля, стал путеводной звездой науки на все времена. Успех открытия физической бесконечности воздействовал на научное овладение сферой духа. В объективистской установке на окружающий мир все духовное казалось приложением к физическим телам. Здесь недалеко было до перенесения естественнонаучного образа мышления человека на философскую теорию, объясняющую космос (материализм и детерминизм Демокрита).
Человек как личность в ее специфической человечности становится темой философии со времен Сократа. В духовной жизни человек остается включенным в объективный мир, неотделяемый от человеческого сообщества. Об этом свидетельствует философия Платона и Аристотеля. Но мыслитель-феноменолог отмечает противоречие, выраженное в философской теории: человеческое принадлежит миру объективных фактов, но как личности люди ставят цели и задачи, располагая определенными нормами, нормами истины, т.е. вечными нормами.
В эпоху Нового времени с воодушевлением воспринимаются никогда не исчезающие из философской и научной теории идеи о бесконечной задаче математического познания природы и вообще познания мира. Успехи естествознания должны использоваться на благо познания духа. Разум в эту эпоху практически доказал свою мощь в природе. Под впечатлением открытий и изобретений, применяемых на практике, формируется мнение, что тайны человеческого духа должны быть раскрыты методами естественных наук. Дух реально, объективно существует в мире и функционирует в телесности. В результате понимание мира обретает дуалистическую, а именно психофизическую форму. Та же самая причинность, но в двух формах охватывает единый мир. Смысл рационального объяснения один и тот же, но любое объяснение духа, если оно должно быть единственным, а поэтому универсально философским, приводит к физике. Не может быть чистого, замкнутого в себе, объясняющего исследования духа, чистой, внутренне ориентированной, исходящей из «Я», из самопережитого психического, устремляющейся к чужой душе психологии или теории духа. Здесь нужно идти опосредованным путем, путем физики и химии. Своеобразным девизом эпохи становится изречение Р. Декарта: «Как Солнце есть единое все освещающее и согревающее Солнце, так и разум един». Э. Гуссерль отмечает, что все речи о духе общности, народной воле, идеалах, политических целях наций и т. п. — все это романтика и мифология, возникшая путем аналогичного перенесения понятий, которые имеют надлежащий смысл лишь в сфере единичного личностного существования. Духовное бытие фрагментарно. На вопрос об источниках всех наших проблем нужно ответить: этот объективизм или это психофизическое мировоззрение есть вопреки своей кажущейся самоочевидности взаимная односторонность, оставшаяся непонятой. Реальность духа как якобы реальных придатков к телам, его якобы пространственно-временное бытие внутри природы — бессмыслица.
Немецкий философ пишет, что в конце Нового времени, когда явственно обозначился кризис философии и науки, ситуация стала восприниматься как критическая в эпохальном смысле. Все науки оказались в затруднении решать свои проблемы, в том числе и проблемы рефлексии. Но это, в конечном счете, трудности метода. Эти проблемы вытекают из наивного убеждения представителей объективистских наук в реальном существовании того, что они считают объективным миром, универсумом всего сущего. В действительности они не замечают того, что движущая научную теорию субъективность не находит себе места ни в одной из «объективных» наук. Воспитанный в естественнонаучном духе ученый считает само собой разумеющимся, что все субъективное должно исключаться из научных процессов, и что естественнонаучные методы, отражающиеся в субъективных представлениях, объективно детерминированы. Для психического находится объективно истинное. Предполагается, что исключаемое физикой субъективное именно как психическое будет предметом психологии, разумеется, психофизической психологии. Однако исследователь природы не уясняет себе философского факта, что постоянным основанием субъективной работы его мысли является жизненный мир. Он постоянно предполагается как почва, поле деятельности, в котором только и имеют смысл реальные познавательные действия и способы мышления. Гуссерль подчеркивает, что эйнштейновский переворот коснулся лишь формул, посредством которых интерпретируется идеализированная и наивно объективированная природа. Но каким образом формулы, математическое объективирование вообще обретают смысл на почве реальной жизни и наглядного окружающего мира — об этом мы ничего не знаем. А. Эйнштейну не удалось теоретически осмыслить и реформировать реальное пространство и время, в которых существует и развивается живая жизнь человека.
Методы и теории рациональности немецким философом-идеалистом считаются абсолютно релятивистскими. Предполагаемое основание традиционной рациональности в действительности не может интерпретироваться в качестве рационального базиса теории. Поскольку реальный мир понимается как субъективная проблема науки, не включающаяся в методологический спектр исследований, забытым оказывается и работающий субъект. Ученый как реальный, жизненный субъект познавательной деятельности не становится темой традиционной науки. С одной стороны, отмечает Э. Гуссерль, со времен И. Канта существует целостная теория познания, но с другой стороны, есть психология, которая с ее претензией на естественнонаучную точность стремится стать всеобщей и основной наукой о духе. Однако надежды на подлинную рациональность, т.е. на действительное прозрение мира, здесь, как и в других областях, не оправдались. Психологи не замечают, что они сами по себе, как действующие ученые, и их жизненный мир не становятся темой психологической теории. Они не видят, что сами себя необходимо предполагают в качестве живущих в обществе людей, принадлежащих своему миру и историческому времени, принадлежащих хотя бы потому, что ищут значимую для каждого человека истину—истину саму по себе. По причине этого объективизма психология не может подойти к теме души в присущем ей собственном смысле, т.е. в смысле деятельного и страдающего «Я». Она способна, расчленяя и объективируя, свести к жизни тела и индуктивно обработать оценочное переживание и опыт воли, и даже более или менее последовательно разрабатывать проблемы эмпирических правил познавательной деятельности, но, вероятно, не сможет проделать эти процедуры с целями, ценностями, нормами. Маловероятно, что психология сможет последовательно сделать своей темой человеческий разум, хотя бы в аспекте предрасположенности к теоретическому мышлению. Ученые обычно упускают из вида, что объективизм как результат деятельности исследователя, стремящегося к познанию истинных норм, изначально содержит эти нормы в своих предпосылках. Он не выводится из фактов, ибо факты уже предполагаются как истины, а не как воображаемые объекты. Отказ от психологического обоснования норм, прежде всего норм истины самой по себе, не дал позитивных результатов для познавательной деятельности исследователей. Философ-феноменолог отмечает, что учеными осознавалась потребность в преобразовании психологической теории, но не осмысливались реальные препятствия для ее развития, и, прежде всего, объективизм. Психологическая теория еще и не подступала к пониманию сущности духа, исходя из неадекватных в философском аспекте предпосылок изолированности объективно мыслимой души и психофизической трактовки бытия-в-сообществе. Проблемы развития теоретической психологии связываются с задачами разработки методологических и предметных взаимодействий наук о природе и наук о духе. Неокантианцы, более последовательно, чем другие философы, занимающиеся проблемами духа, предпринимали оригинальные попытки дополнить психофизическую психологию аналитической психологией, но они, с точки зрения Гуссерля, были малоэффективны. Эти философы также не преодолели теоретический объективизм в научном мышлении. Психология, как и другие науки, не может развиваться, пока не осознана философско-мировоззренческая наивность объективизма, порожденного естественной установкой на окружающий мир. Необходимо преодоление дуалистического миропонимания, в котором природа и дух трактуются как подобные реальности, хотя бы и взаимодействующие в каузальном смысле. Немецкий мыслитель делает выводы, в соответствии с которыми объективной науки о духе, объективного учения о душе, объективного в том смысле, что оно считает души и человеческие сообщества существующими внутри пространственно-временных форм, не может быть создано никогда. Идеалист исходит из идеи, что дух существует в самом себе и для себя самого, абсолютно независим, и в этой независимости может существовать и действовать рациональным образом, изначально и истинно научно в своей сущности. Природа в ее естественнонаучной истине только по видимости самостоятельна, по видимости для себя открыта рациональному познанию естественных наук. Истинная природа в ее естественнонаучном смысле есть продукт исследующего природу духа, и, следовательно, предполагает науку о духе. Дух в своей сущности предназначен к самопознанию, и как научный дух — к научному самопознанию, и этот процесс бесконечен. Лишь в чистом духовно-научном познании ученому раскрывается истинный смысл его собственных усилий.
Закономерен вывод, что науки о духе не могут быть равноправны с науками о природе. В момент, когда они признают за последними их объективность как самостоятельность, они сами впадают в объективизм. В том состоянии, в каком науки существуют в современную эпоху, разделяясь на множество дисциплин, они лишаются последней, подлинной, обретенной в духовном миросозерцании рациональности. Именно отсутствие у всех пытающихся взаимодействовать или вести диалог сторон истинной рациональности рассматривается немецким мыслителем как источник ставшего невыносимым для культуры непонимания людьми сущности и смысла своего собственного существования и собственных бесконечных задач. Сущность главной и бесконечной задачи человечества, характеризующегося единством и многообразием, раскрывается в тотальной идеальной ситуации: когда дух из наивной обращенности вовне вернется к себе самому и останется самим собой, он сможет стать удовлетворенным бытием.
Начало становления и развития действительного и подлинного самосознания было невозможным, пока в духовной культуре господствовали сенсуализм, психологизм эмпирических данных, идея изначальной «чистоты» человеческой психики. Лишь Ф. Брентано, выдвинувший идею создания психологии как науки об интенциональных переживаниях, сумел положить начало преодолению объективизма и психологического натурализма, сохранившихся, однако, в его воззрениях. Разработка действительного метода постижения сущностной основы духа в его интенциональности и построение на этой основе бесконечной и последовательной аналитики духа привели к созданию трансцендентальной феноменологии. Любой объективизм, в том числе и натуралистический, феноменология преодолевает единственно возможным способом: философствующий субъект начинает действовать, исходя из собственного «Я», понимаемого как производитель всех смысловых значений, по отношению к которым он становится «чистым» теоретическим наблюдателем. В этой установке возможно построение абсолютно независимой науки о духе в форме последовательного самопонимания и понимания мира как продукта деятельности духа. Дух здесь не в природе и не около нее; она сама возвращается в сферу духа. «Я» — уже не изолированный объект наряду с другими подобными объектами в заранее готовом мире; личности уже не «вне» друг друга или около друг друга, но пронизаны «друг-для друга и друг-в-друге» бытием.
В этой феноменологической теории рацио представляется в качестве действительно универсального и радикального самопознания духа в форме универсально ответственной науки, развивающейся в новом модусе научности, где находят соответствующее положение все мыслимые вопросы—о бытии, о нормах, об экзистенции. Интенциональная феноменология впервые превратила дух как таковой в предмет систематического опыта научного изучения и тем самым осуществила тотальную переориентацию основной задачи познавательной деятельности. Универсальность абсолютного духа охватывает все сущее в абсолютной историчности, в которую включается и природа как духовное образование. Лишь интенциональная, точнее, трансцендентальная феноменология благодаря своим исходным положениям и методам, создала в действительности реальный мир для человека. Феноменология дала возможность понять на уровне научной теории, что представляет собой натуралистический объективизм, и почему психология в силу ее натурализма вообще должна была упустить из виду творчество — радикальную и сущностную проблему духовной жизни.
Э. Гуссерль на уровне наметившихся в его трудах элементов интегрального культурологического подхода, и, в определенных аспектах, близкой к научной интерпретации содержания историко-философского процесса сумел вскрыть и проанализировать многие социокультурные обстоятельства и духовно-мировоззренческие причины кризисных явлений развития европейского теоретического мышления и образа жизни. Для него кризис европейского человечества не выглядит темным роком, непроницаемой судьбой. Этот кризис становится понятным на фоне открываемой философией телеологии европейской истории. Предпосылкой этого понимания должно стать рассмотрение европейского феномена в его сущностном измерении. Чтобы понять определенную противоестественность того, что называют кризисом, необходимо выработать понятие «Европа» на уровне исторической телеологии бесконечной цели разума. Исследователю, претендующему на научность, необходимо конкретно показать, каким образом европейский «мир» был рожден из идеи разума, т.е., в сущности, из духа философии. На этой философско-мировоззренческой основе «кризис» может быть объяснен как кажущееся, иллюзорное крушение рационализма, но лишь в его «овнешнении», извращении объективизмом и натурализмом.
С эпохи начала развития естествознания в традиционной, относительно целостной духовной жизни общества и культурных процессах возникают противоречия, достигшие высшей точки в ХХ веке. Эти противоречия проявляются в разрыве между «жизненным самосознанием человека» и научным объяснением места человека в мире. Уровень и интенсивность определения мировоззрения человека современной эпохи позитивными науками, элементы которых, интегрируясь в культурные процессы, способствуют ослеплению людей плодами процветающей цивилизации, предполагают забвение сущностных вопросов о достоинстве человеческого существования. Чистая наука о фактах, по замечанию Гуссерля, превращает человека в «голый» научный факт. Наука, абстрагирующаяся от любой субъективности, ничего не может сказать о смысле бытия, человеке как субъекте собственной свободы. Неокантианские науки о духе, пытающиеся исследовать духовное бытие человека, обосновывают строгую научность, которая предполагает, что ученые будут исключать из исследовательских процессов все оценочные характеристики, все суждения о смысле и бессмысленности всего, что касается достоинства человека и плодов его культуры. Научная, объективная истина сводится к констатации того, чем фактически является мир не только физический, но и духовный. Человек, существующий как исторический субъект, не может обнаружить в науках смыслов, если они полагают истинными исключительно констатации фактов об эмпирических реальностях. Новая наука о духе должна строиться на феноменологической идее жизненного мира.
Европейское человечество, обретая философское сознание, на определенном этапе его развития утратило непосредственное ощущение ценности и «закономерности» собственного бытия, свойственное ему на предшествующем этапе мифо-религиозной установки. Человек оказался растворенным в научных «бесконечностях». Это стало причиной скептического недоверия к рациональной философии и науке, отвержения любых абсолютов, волны иррационализма в Х1Х-ХХ вв. Эти философские факты Гуссерль интерпретирует и диагностирует как кризис Европы, который в его понимании превращается в глобальный кризис, выражающийся в распространении квазинаучного объективистского натуралистического мировоззрения на все формы культуры. Не только цели научного исследования, но и методология обусловлены духовной культурой человечества, а не основанными на одностороннем эмпиризме интерпретациями закономерностей развития природы.
Философ-феноменолог предпринимает оригинальную попытку интерпретации жизненного мира современной ему культуры. Исследование обнаруживает в качестве элементов жизненного мира не только «чистые» явления природы, но и ценности, а также реальные практические объекты, относящиеся к материальной культуре, или к цивилизации. В отношении к способу данности исследователь находит в качестве естественного, хотя и не предметного горизонта, горизонты ценностные и практические, например, практический горизонт деятеля в его целесообразной деятельности, соотнесенной с единством цели, которая, в свою очередь, включена в более широкие взаимосвязи.
Разрабатывая концепцию жизненного мира, феноменолог обозначает его как дофилософский, донаучный, но не в смысле его незатронутости наукой, что было бы невозможным в эпоху Нового времени, а в том смысле, что этот мир «является» исследователю до сознательного субъективного принятия теоретической, философской или научной, установки. Жизненный мир первичен в смысле предпосылки теоретического понимания познавательных процессов. Уточняя свою позицию, философ пишет о первичности чистого и непосредственного субъективно-релятивного созерцания жизни мира. Концепция жизненного мира выступает основанием научных идеализаций. Теоретическая установка оказывается, в определенном аспекте, включенной в практическую установку и подчиненной ей, выступать в качестве ее разновидности («теоретическая практика»).
Феноменологический «жизненный мир» в культурологической литературе трактуется как культурно-исторический мир, точнее, культурно-исторически обусловленный образ мира, как он выступает в сознании определенной социально-исторической общности, вплоть до цивилизации, на конкретном этапе ее развития (Л.Г. Ионин). Жизненный мир, в котором производится и воспроизводится человек и его деятельность, релятивен и не становится предметом исследования традиционной, объективистски ориентированной философии и науки. Наука не делает своим предметом исторически конкретного человека, поскольку не в состоянии осмыслить собственной основы — наглядно-субъективной реальности, которой и выступает жизненный мир. По этой причине философия и наука не в состоянии обосновать собственную рациональность. Философия как строгая наука в концепции Э. Гуссерля должна разработать особую дисциплину — онтологию жизненного мира. Этот мир с позиций современной теоретической культурологии может интерпретироваться как мир опыта мировоззренческих исканий реального субъекта творческой деятельности, включающий культурное становление личности, взятой в ее исторически конкретной духовной ситуации.
«Для гуманитарного культурологического дискурса фундаментально важна феноменология, в частности, гуссерлевская категория «жизненного мира». «Жизненный мир» – «изначальная среда обитания» нашей субъективности, некий «Универсум явленностей», составляющих первичный, необработанный слой культурного, эмоционально-смысловая стихия, предшествующая любому оформлению и систематизации. Культура, понятая как «Жизненный мир», может быть «увидена» только в непосредственном соприкосновении с предметом, в живом его переживании, через реальную погруженность в него. И тут акт специфически гуманитарного, художественного сознания совпадает с природой феномена культуры, ибо культура как духовно-смысловое и жизненное единство схватывается прежде всего художественным сознанием.
Попытка Э. Гуссерля по-своему уникальна. Если уж принять, что Гуссерль стремился к построению «точной науки», то именно созданной гуманитарно, в контексте гуманитарного сознания. Своеобразнейшая задача: понять и описать в терминах строгой научности, используя богатейший арсенал прихотливых логических построений, опираясь на интеллектуальную интуицию, специфические особенности гуманитарного сознания». [3]
Анализ концепций Э. Гуссерля показывает, что реализация важнейшей функции философии — последовательная мировоззренческая рефлексия и интерпретация результатов развития культуры, и, прежде всего, науки, как одной из основных форм культурного творчества, возможна лишь на уровне методологии, основывающейся на принципе историзма и понимании диалектического единства субъекта и объекта познавательной деятельности, рассматриваемого в социологическом контексте. Эта проблематика особенно актуальна в условиях переосмысления места и роли науки в обществе и жизни человека, ее когнитивных и практических возможностей, исторических смыслов развития. Интенсивность процессов развития науки во многом зависит от мировоззренческих и культурных ориентаций ее творцов, их представлений об общекультурной картине мира, создаваемой и философией как самосознанием культуры. Научные исследования могут стать эффективными, если они получат методологическое и мировоззренческое обоснование со стороны философской теории, имеющей определенный и конкретный научный статус, который может повыситься в условиях интеграции знаний, разработки синтетического миропонимания, ориентированного на универсальную диалогическую культуру, сформировавшейся в европейской духовной традиции и существующей в условиях образа жизни, сложившегося в рамках цивилизации Запада, но обладающей способностью к бесконечному, с большой вероятностью, творческому развитию и взаимодействию со всеми рефлексирующими культурами, включающими философское знание. Движущими силами развития науки могут быть исследуемые культурологией ментальные структуры, исторически включенные в духовно-мировоззренческие основы цивилизации, образ жизни и культурные процессы.
Внутренним ядром развивающейся культуры, имеющей исторические перспективы, является не наука, религия или нравственность, а мировоззренческая рефлексия представлений, традиций, идеалов, ценностей, норм и взаимосвязей между ними, возможная на уровне рациональной теории, имеющей практический жизненный смысл для человека как творца или со-творца мира, наделяющего его конкретными смыслами.
©Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент, 2012 г.
©Арушанов Сергей Зармаилович, редактирование и оформление, 2012 г.
Приложение 1:
 Рис. 3. «Еврейский философ Эдит Штайн [4] — 2.10.1891 — 9.08.1942, сотрудница Эдмунда Гуссерля, в 1922 году, в результате «духовных поисков» она встречает Иисуса — Мессию и Царя Израиля и принимает крещение. В 1932 году начинает преподавать в Мюнстере, в Высшем Германском Научно-Педагогическом Институте, однако уже через год в 1933 она вынуждена была оставить преподавание, т.к. Гитлер запретил евреям занимать любые общественные посты (Гитлер, в отличии от некоторых израильтян, не считал, что после крещения еврей перестает быть евреем). Да и сама Эдит никогда не отказывалась от своего еврейства. Слова «мой народ» часто появлялись в ее записях. В 1938 году она приносит «вечные обеты» в Ордене Кармелиток и принимает имя Тереза Бенедикта от Креста. Из-за преследования евреев в Германии, власти Ордена решают перевести ее в монастырь Эхте в Голландию. В 1942 году за ней приходит Гестапо. Укрепляя свою сестру Розу, она говорит: «Пойдем же за наш народ». 9 августа 1942 перед ней открылись двери газовой камеры лагеря Освенцим, ставшие для нее Воротами Царства. Католическая Церковь почитает Эдиту святой.
Рис. 3. «Еврейский философ Эдит Штайн [4] — 2.10.1891 — 9.08.1942, сотрудница Эдмунда Гуссерля, в 1922 году, в результате «духовных поисков» она встречает Иисуса — Мессию и Царя Израиля и принимает крещение. В 1932 году начинает преподавать в Мюнстере, в Высшем Германском Научно-Педагогическом Институте, однако уже через год в 1933 она вынуждена была оставить преподавание, т.к. Гитлер запретил евреям занимать любые общественные посты (Гитлер, в отличии от некоторых израильтян, не считал, что после крещения еврей перестает быть евреем). Да и сама Эдит никогда не отказывалась от своего еврейства. Слова «мой народ» часто появлялись в ее записях. В 1938 году она приносит «вечные обеты» в Ордене Кармелиток и принимает имя Тереза Бенедикта от Креста. Из-за преследования евреев в Германии, власти Ордена решают перевести ее в монастырь Эхте в Голландию. В 1942 году за ней приходит Гестапо. Укрепляя свою сестру Розу, она говорит: «Пойдем же за наш народ». 9 августа 1942 перед ней открылись двери газовой камеры лагеря Освенцим, ставшие для нее Воротами Царства. Католическая Церковь почитает Эдиту святой.
Приложение 2:
Доминанты мышления
«Философская эволюция Гуссерля, несмотря на страстную его преданность одной идее (а может быть, именно благодаря этому), претерпела целый ряд метаморфоз. Однако неизменным оставалась приверженность к следующему:
Гуссерль апеллирует к философии, способной, по его мысли, восстановить утраченную связь с глубочайшими человеческими заботами. Он не удовлетворяется строгостью логических и дедуктивных наук и усматривает главную причину кризиса науки, а также европейского человечества в неумении и нежелании логики и математики поворачиваться к проблемам ценности и смысла. Радикальная строгость, которая при этом подразумевается, есть попытка дойти до «корней», или «начал», всего знания, избегая всего сомнительного и принимаемого на веру. Решившемуся на такое предстояло глубокое понимание своей ответственности. Эту ответственность невозможно перепоручить кому бы то ни было. Тем самым она потребовала полной научной и моральной автономии исследователя.
Как писал Гуссерль, «истинный философ не может не быть свободным: сущностная природа философии состоит в её крайне радикальной автономии». Отсюда и внимание к субъективности, к неустранимому и фундаментальному миру сознания, понимающего собственное бытие и бытие других. Жизнь и научная деятельность Гуссерля полностью соответствовали самым строгим требованиям автономии личности, критицизма мысли и ответственности перед эпохой. Эти сильные качества импонировали многим ученикам, в плодотворном сотрудничестве которых и сложилось феноменологическое движение. Все ученики сохраняли неизменное уважение к тому, кому они были обязаны началом своего мышления, хотя никто из них долго за Гуссерлем не следовал.
Основы философии
1. Философия Гуссерля сосредоточена на гносеологической проблематике.
2. Основой познания для Гуссерля является очевидность (непосредственное созерцание); критерий очевидности в познании Гуссерль называет «принципом всех принципов». Иными словами, гносеологическое исследование должно быть беспредпосылочным, то есть должно основываться только на очевидно усматриваемом, отказываясь от всяких предварительных теорий.
2.1. Привилегированное место в составе сознания отводится чувственным созерцаниям (восприятиям, представлениям и т. д.) как основополагающему элементу, лежащему в основе всех остальных переживаний сознания (ценностных, волевых и пр.). При этом «основополагающим», «праисконным» опытом является восприятие; другие чувственные созерцания — его модификации.
2.2. Очевидностью является не только созерцание реально существующих вещей в чувственном опыте, но и созерцание сущностей (идеация). Таким образом, постулируется бытие и возможность непосредственного созерцания (идеации) идеальных объектов — сущностей, значений.
3. Философия трактуется как феноменология — строгая наука, относящаяся к «всеобъемлющему единству сущего», которая должна стать обоснованием всякого научного знания. Феноменология — дескриптивная наука, которая (на основе принципа очевидности и феноменологических редукций) исследует и приводит в систему априорное в сознании, задавая тем самым основные понятия наукам.
4. Инструментом феноменологии являются феноменологические редукции. Феноменолого-психологическая и эйдетическая редукции позволяют осуществить «выключение» реального мира, данного в естественной установке, и перейти к сосредоточению на самих переживаниях сознания; затем трансцендентальная редукция осуществляет переход от сознания эмпирического субъекта к чистому сознанию (то есть очищенному от всякой, в том числе психической, реальности переживаний).
4.1. Отказ от естественной установки обнаруживает, что фундаментальным свойством сознания является интенциональность, то есть свойство его содержаний быть «сознанием о», сознанием чего-то — а именно интенционального предмета (который может быть не только реальным — вещью в пространстве и времени, но и идеальным — сущностью, значением). Таким образом, выступает основополагающее различение реального и интенционального содержания сознания (в установке трансцендентальной редукции — ноэзиса и ноэмы). Ноэзис — само переживание сознания, взятое независимо от всякого стоящего за ним бытия; ноэма — смысл переживания, указывающий на это трансцендентное бытие (предмет, реальный или идеальный). Говорить же о бытии (о трансцендентном) помимо его явленности в сознании (ноэме) абсурдно.
4.2. Отталкиваясь от интенциональной природы сознания, более детальные исследования в установке феноменологической редукции раскрывают структуру ноэмы, а также обнаруживают чистое «Я». В составе ноэмы выделяются: 1) материя (ядро, предметный смысл); 2) качество (характеристика); 3) подразумеваемый (интендированный) предмет. Общая структура чистого сознания принимает вид: Чистое «Я» / Ноэзис / Ноэма.
5. Посредством аналогизирующего восприятия для меня появляется Другой (то есть отличный от меня субъект). Первоначально мне дано лишь одно «живое тело» (психо-физическое единство, тело в сочетании с субъективностью) — моё собственное. Обнаруживая другое тело, подобное моему, я — по аналогии с собой — приписываю ему и свойство быть психо-физическим «живым телом», то есть субъектом. Вслед за этим и «мой мир» становится общим для меня и Другого объективным (интерсубъективным) миром. …
Интенциональное переживание и интенциональный предмет
Гуссерль настаивает на том, что феноменологически несравненно большее значение имеет предмет, каким он дан в составе переживания (в ноэме), а не сам недоступный трансцендентный предмет, на который направлено переживание.
1. Мир случаен — сознание абсолютно. Бытие переживаний сознания несомненно: невозможно сомневаться в существовании переживания, если оно переживается, присутствует в сознании. Напротив, бытие интенциональных предметов всегда сомнительно: восприятие может оказаться лишь иллюзией, галлюцинацией. «Итак, тезису мира — мир „случаен“ — противостоит тезис моего чистого Я, жизни моего Я, которая является „необходимой“, абсолютно несомненной»[39].
2. Действительное существование интенционального предмета не имеет значения для интенционального переживания. Восприятие может оказаться лишь иллюзией, галлюцинацией, но феноменологически при этом ничего не изменится: ведь восприятию противостоит не само трансцендентное, принципиально недоступное сознанию, а воспринимаемое как ноэма — «воспринимаемое как таковое в таком смысле, который исключает вопрос о том, правда ли, что это воспринятое есть на деле»[40]. «Не предмет переживается и наряду с ним интенциональное переживание… но только одно наличествует — интенциональное переживание», направленное на интенциональный предмет и несущее его в себе.[41] Из бытия потока чистого сознания абсолютно не вытекает «что непременно должен быть мир, что непременно должна быть какая-то вещь», сознание не зависит от существования трансцендентного и сохраняется и при уничтожении мира[42].
3. Мир, помимо явленности в сознании, — «противосмысленная мысль». Для нас есть только переживания сознания; интенциональный предмет дан нам лишь в указывающем на него переживании сознания[43]. Говорить о каком-то трансцендентном предмете помимо того, как он дан имманентно, проводить между ними различие, утверждать, что воспринятая вещь — явление иной, «внутренне ей чуждой… отделенной от неё» реальности, — бессмысленно: нельзя утверждать существование того, что не может быть предметом возможного опыта[44]. Всё трансцендентное доступно опыту, «может становиться данностью», а всякие попытки выйти за пределы переживаний сознания и «дотянуться» до самого трансцендентного предмета бессмысленны. Есть лишь «реальный состав переживания и то, что сознается в таковом как нереальное»[45].
Таким образом, отказ от естественной установки обнаруживает:
противопоставлять следует не образ и действительность, как в классической метафизике (это противоречит опыту и ведёт к бесконечному регрессу), а ноэзис и ноэму.[46]
Даже абсолютный субъект (Бог) не мог бы созерцать сами трансцендентные вещи, — говорит Гуссерль, — доступность их лишь в явлении сущносто необходима[47].
4. Связь интенционального переживания и его предмета — не причинная фактическая связь, имеющая место в мире; речь здесь не идёт о том, что нечто, существующее в мире (предмет), вызывает переживание как психический факт. Переживания берутся как таковые, не как факты, а как сущности, соответственно, и связь переживание-предмет сущностная, а не фактическая — отсылка к предмету заключена в самой сущности переживания[48]. Сознание в модусе феноменологической редукции — вне пространства, времени, причинности[49]. Поэтому неверно утверждать, что вещи мира — причина переживаний сознания. «Существование природы не может обусловливать существования сознания, — ведь она сама выходит наружу как коррелят сознания; природа существует, лишь конституируясь в упорядочиваемых взаимосвязях сознания».[50]
5. Интенциональный предмет может быть представлен в переживании лишь односторонне. Так, воспринимаемая вещь, то есть трансцендентное «пространственное бытие… может „являться“ только в известной „ориентации“»[51], в нюансировании — односторонне, неполно, несовершенно, — как момент бесконечного континуума восприятия. Мы не можем увидеть вещь сразу со всех сторон, охватить во всей полноте её существования. Сами же переживания не нюансируются, даются во всей своей полноте. Полная, адекватная данность вещи имеется лишь как кантовская «идея», в бесконечной перспективе.[52] Аналогично, никакое количество созерцаний-примеров не позволит схватить сущность адекватно, во всей ее полноте, возможно лишь безграничное приближение, схватывание её как кантовской «идеи»[53].
Рассматривая отношение переживания (акта) сознания и его интенционального предмета, Гуссерль также отмечает, что «каждый акт относится интенционально к одной принадлежащей ему предметности», даже если сам акт (переживание сознания) — составной[54]. «В восприятии куба, например, обнаруживается сложная и синтезированная интенция: непрерывная вариантность в „явлении“ куба в зависимости от угла зрения и соответствующие различия в „перспективе“, а также различие между „передней стороной“, видимой в данный момент, и „задней стороной“, в данный момент невидимой, которая остается следовательно несколько „неопределенной“, но которая в то же время равным образом полагается существующей. Наблюдение за этим „потоком“ различных явлений-аспектов и за способом их синтеза показывает, что каждая фаза и интервал есть уже в себе „сознание-о“ чем-то. При этом постоянный приход новых фаз не нарушает ни на один момент синтетическое единство целостного сознания, фактически оно остается сознанием одного и того же объекта»[55]. ….
Я (Ego)
Кроме текущих содержаний сознания, есть ещё само тождественное ego (чистое «Я»), обладающее заключёнными в нём содержаниями, — то, чей «„взор“ проникает „сквозь“ любое актуальное cogito, направляясь к предметному»; сопровождая все переживания, оно само не является переживанием[75]. Само чистое Я лишено содержаний и, соответственно, не подлежит описанию[76]. Его бытие («Я есмь») — аподиктическая очевидность[77]. «Ego само есть сущее для самого себя в непрерывной очевидности и, следовательно, непрерывно конституирующее себя в себе самом как сущее. […] Ego схватывает себя не просто как текущую жизнь, но как Я, как мое я, которое переживает то или иное содержание, которое, оставаясь одним и тем же, проживает то или иное cogito»[78].
Более того, Я — «не пустой полюс тождественности»; напротив, все мои акты откладываются в Я, в составляющие его самотождественность определения; Я — «тождественный субстрат неизменных особенностей Я»[79].
Ego как монада
Кроме чистого ego, Гуссерль вводит также понятие ego как монады (заимствуя последний термин у Лейбница). Я как монада — это «ego, взятое в полной конкретности», «в текущем многообразии своей интенциональной жизни» — не как полюс и субстрат переживаний, а как совокупность этих переживаний. Это «фактическое ego», которое «охватывает всю действительную и потенциальную жизнь сознания», эмпирическое Я.[80]. …
Значение
Трудно указать область современной философии, и шире — методологии гуманитарных наук, где бы не нашла отклика и продолжения хотя бы одна из гуссерлевых мыслей и интуиций. А между тем ещё не издано многое из его, особенно позднего, наследия».
[1] Иммане́нтность (лат. immanens, род.пад. immanentis «пребывающий внутри») — философская категория, обозначающая неотъемлемость, внутреннюю связь в противоположность внешней. Для религиозной философии важен вопрос об имманентности (принадлежности) божества миру. Она решительно отвергается деизмом и, безусловно, признается чистым пантеизмом; другие точки зрения признают ее с различными ограничениями и в различных смыслах. У Канта имманентное — противоположность трансцендентного; то, что пребывает в самом себе и не переходит в нечто чуждое, не трансцендирует. Имманентным является, например, метод, который определяется самим предметом исследования, критика, которая обсуждает идею или систему идей, исходя из её собственных предпосылок. В теории познания «имманентный» означает: остающийся внутри границ возможного опыта. Имманентное свойство — неотъемлемое свойство предмета; свойство, присущее ему по самой его природе. – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EC%EC%E0%ED%E5%ED%F2%ED%EE%F1%F2%FC
[2] Интенциона́льность (от лат. Intentio — намерение) — понятие в философии, означающее центральное свойство человеческого сознания: быть направленным на некоторый предмет. – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C . (Этот термин близок или сродни понятию Интенция) – Интенция — Интенция (лат. intentio «стремление, намерение») — направленность сознания, мышления на какой-либо предмет; в основе такой направленности лежит желание, замысел. В отличие от желания, которое представляет собой влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь, замысел понимается как задуманный план действий (намерение), поэтому представляется целесообразным связывать интенцию прежде всего с замыслом. Интенция — коммуникативное намерение — может появиться в виде замысла строить высказывание в том или ином стиле речи, в монологической или диалогической форме. Разновидностью интенции является речевая (коммуникативная) интенция — намерение осуществить речевой акт. Интенция так же может означать бессознательное намерение, буквально: «то, что ведет меня изнутри туда, куда я хочу». Религиозное использование термина: Интенция — то, о чем кто-либо просит в молитве. В зависимости от интересов самого молящегося или других лиц. Интенция может иметь духовный или материальный характер, быть личной или общей. Интенция мессы — это интенция священника, служащего мессу, и людей, принимающей в ней участие, или лица, ее заказавшего. Молиться «в интенции римского папы» значит молиться о том, о чем просит папа. Термин широко используется среди верующих Католической церкви. В иудаизме: В иудаизме аналогом категории «интенция» часто называют понятие кавана. Согласно одному из описаний, Кавана — это направленность сердца, то есть сосредоточенное внимание, интенция, вкладывание души в то, что ты делаешь. Кавана в молитве является неотъемлемой частью самой заповеди. Молитва ни в коем случае не должна приобретать рутинный характер, становиться механическим проговариванием знакомых слов. Сказано у Мудрецов: «Молитва без каваны — это тело без дыхания». — Сидур «Шаарей Тфила» По словам раввина Хаима Галеви Донина, «кавана диаметрально противоположна совершенному, но механическому прочтению и произнесению слов. Кавану можно определить и иначе; каждое определение представляет при этом более высокую ступень Каваны, каждая дефиниция есть призыв и требование к молящимся. Первая ступень Каваны предполагает знание и понимание ими того, что произносится в молитве. Затем следует освобождение духа от всех внешних, отвлекающих мыслей и полная концентрация на молитве. Завершает все высшая ступень Каваны, когда слова молитвы произносят с большой самоотверженностью, сосредоточенностью и благоговением, думая о ее глубинном смысле»[1] – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F». Прочитав, приведенное выше определения, мы со всей очевидностью понимаем, что философы ввели некие термины и пользуются ими для описания того, что они, по сути, не понимают! Примером может служить фраза – «Интенция так же может означать бессознательное намерение, буквально: «то, что ведет меня изнутри туда, куда я хочу»». Кто такой Я, которого, что-то ведет изнутри, и, к чему относится или принадлежит — «куда я хочу»?! Что такое, и, где оно – «внутри»?! — Где это в человеке возникает или формируется – «я хочу»?! Так, что становится ясно, что самое главное понятие – «Как устроен человек?» остается неопределенным! Где его духовная составляющая, где тонкоматериальная, а где материальная составляющая, где сознание и подсознание?! В наших статьях на сайте — Одна из тайн Духова Дня и — Кто вы русские, а мы знаем кто! мы попробовали рассказать о знаниях мудрецов древности о человеке. Тем не менее, ученые пытаются осмысливать в рамках сложившихся философских «понятий — непонятого» даже исторические процессы. Таков путь развития «материалистической» науки. Увы?! (Прим. ред.).
[3] Шор Ю.М., «Образ культуры в гуманитарно-художественном сознании», Журнал «Человек», № 4, 2011 г., с. 43.
[4] Адрес ссылки в Интернете – Эдит Штайн — http://nesna.diary.ru/?tag=3931
 В своей работе «Постижении истории» известный английский ученый Арнольд Джозеф Тойнби разработал и изложил собственную теорию цивилизации… «Тойнби рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «единого дерева истории»». В его работах рассматривались проблемы культурогенеза, культурного прогресса, типологии культур и цивилизаций, их духовно-мировоззренческие основы. Идеи Тойнби, относящиеся к исторической, социальной и политической культурологии, оказали сильное влияние, в частности, на концепцию С. Хантингтона.
В своей работе «Постижении истории» известный английский ученый Арнольд Джозеф Тойнби разработал и изложил собственную теорию цивилизации… «Тойнби рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «единого дерева истории»». В его работах рассматривались проблемы культурогенеза, культурного прогресса, типологии культур и цивилизаций, их духовно-мировоззренческие основы. Идеи Тойнби, относящиеся к исторической, социальной и политической культурологии, оказали сильное влияние, в частности, на концепцию С. Хантингтона.
Для А.Тойнби в середине ХХ в. и для Хантингтона в конце столетия вероятной, хотя и нежелательной перспективой является конфликт цивилизаций.
«…В нарождающемся мире, — пишет С. Хантингтон [1] , основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики».
А. Тойнби задолго до С. Хантингтона утверждал, что развитие человечества возможно, прежде всего, как взаимовлияние цивилизаций, в котором существенную роль играет агрессия Запада и ответные контрудары противостоявшего ему мира. Он основывался на анализе опыта развития цивилизаций за последние шесть тысяч лет. Английский ученый обосновывал положение, что цивилизации представляют собой определенные типы человеческих сообществ, вызывающие ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, нравов, обычаев, т.е. в области культуры. Цивилизации рассматриваются как наименьший блок исторического материала, к которому обращается тот, кто пытается изучить историю собственной страны. Пределы во времени, пространстве, культуре дают умопостигаемую единицу цивилизации. Цивилизация, резюмирует Тойнби, это достигшая пределов самоидентификации культура. Хантингтон, пытаясь развить эти идеи, пишет [2] :
«Цивилизация представляет собой некую культурную сущность. Деревни, регионы, этнические группы, народы, религиозные общины – все они обладают особой культурой, отражающей различные уровни культурной неоднородности… Мы можем определить цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей. Следующую ступень составляет уже то, что отличает род человеческий от других видов живых существ. Цивилизации определяются наличием общих черт объективного порядка, таких, как язык, история, религия, обычаи, институты, а также субъективной самоидентификацией людей. Есть различные уровни самоидентификации: так, житель Рима может характеризовать себя как римлянина, итальянца, католика, христианина, европейца, человека Западного мира. Цивилизация — это самый широкий уровень общности, с которой он себя соотносит. Культурная самоидентификация людей может меняться, и в результате меняются состав и границы той или иной цивилизации».
В концепции А. Тойнби цивилизации формируются и развиваются, отвечая на общественно-культурные «вызовы», когда они возглавляются творческим меньшинством, и погибают, когда лидеры перестают отвечать соцально-историческим потребностям. Так, анализируя истоки развития выделяемых им двадцати одной цивилизации, ученый выделяет вызовы сначала природной, а затем человеческой среды. Первые вызовы, которые можно зафиксировать в истории, были сделаны дельтами рек — Нила, Иордана, Тигра и Ефрата, Инда с его некогда существующим параллельным руслом. Эти реки пересекают маловодные степи, такие, как засушливая Афразийская степь. В Нильской дельте ответом стал генезис египетской цивилизаций, в долине Тигра и Ефрата — шумерской, в долине Инда и его бывшего притока — индской культуры (если предположить, что последняя не является ответвлением шумерской цивилизации, а имеет самостоятельные и независимые корни). По окончании ледникового периода афразийская территория стала испытывать сильные климатические изменения. Это привело к иссушению земель.
 Рис. 1. «Арнольд Джозеф Тойнби [3] (англ. Arnold Joseph Toynbee; 14 апреля 1889 — 22 октября 1975) — британский историк, философ истории, культуролог и социолог, автор двенадцатитомного труда по сравнительной истории цивилизаций «Постижение истории», один из разработчиков цивилизационной теории. Удостоен Ордена Кавалеров Почёта. Биография: Родился в Лондоне. Племянник известного исследователя экономической истории и сторонника социального реформаторства для улучшения положения рабочего класса Арнольда Тойнби. Учился в колледже Винчестер и Бэллиоль в Оксфорде, где начал преподавательскую деятельность в 1912 г., затем в Кингс-колледж, где преподавал историю Средних веков и Византии. В 1913 г. женился на дочери Гилберта Мюррея Розалинде Мюррей (†1967). С 1919 по 1924 преподавал в Лондонском университете. Работал в Лондонской школе экономики и Королевском институте международных отношений (англ. RIIA) в Чэтэм-Хаус, директором которого был с 1929 по 1955 гг. Автор множества исследований по историко-философским, социологическим и политическим проблемам. Положение ученого-специалиста, вовлечённого в мировую политику на самом высоком уровне (эксперт на Парижских мирных конференциях 1919 и 1946 гг.), в значительной степени определило характер и масштабы его исторического мышления. Последовательно писал и издавал части философско-исторического труда «Постижение истории» (т. 1-12, 1934-1961 гг.). Это исследование он начал в 1927 г. Итоги подведены в книге «Изменения и привычки» (1966 г.). В «Постижении истории» разработал и изложил собственную теорию цивилизации… Тойнби рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «единого дерева истории». Цивилизация, по Тойнби — замкнутое общество, характеризующееся при помощи двух основных критериев: 1) религия и форма её организации; 2) территориальный признак, степень удалённости от того места, где данное общество первоначально возникло.[2] Тойнби выделяет 21 цивилизацию… Тойнби о России: Например, коммунизм Тойнби рассматривал как «контрудар», отбивающий назад то, что Запад навязал в XVIII в. в России. Экспансия коммунистических идей лишь один из неизбежных ответов на противоречие «между западной цивилизацией как агрессором и другими цивилизациями как жертвами». Свидетель гибели викторианской Англии, двух мировых войн и распада колониальной системы, Тойнби утверждал, что «на вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру незападный облик». Тойнби предсказывал, что в 21 в. определяющим историю Вызовом станут выдвинувшая собственные идеалы Россия (которую Запад не жаждет принять в свои объятия), исламский мир и Китай».
Рис. 1. «Арнольд Джозеф Тойнби [3] (англ. Arnold Joseph Toynbee; 14 апреля 1889 — 22 октября 1975) — британский историк, философ истории, культуролог и социолог, автор двенадцатитомного труда по сравнительной истории цивилизаций «Постижение истории», один из разработчиков цивилизационной теории. Удостоен Ордена Кавалеров Почёта. Биография: Родился в Лондоне. Племянник известного исследователя экономической истории и сторонника социального реформаторства для улучшения положения рабочего класса Арнольда Тойнби. Учился в колледже Винчестер и Бэллиоль в Оксфорде, где начал преподавательскую деятельность в 1912 г., затем в Кингс-колледж, где преподавал историю Средних веков и Византии. В 1913 г. женился на дочери Гилберта Мюррея Розалинде Мюррей (†1967). С 1919 по 1924 преподавал в Лондонском университете. Работал в Лондонской школе экономики и Королевском институте международных отношений (англ. RIIA) в Чэтэм-Хаус, директором которого был с 1929 по 1955 гг. Автор множества исследований по историко-философским, социологическим и политическим проблемам. Положение ученого-специалиста, вовлечённого в мировую политику на самом высоком уровне (эксперт на Парижских мирных конференциях 1919 и 1946 гг.), в значительной степени определило характер и масштабы его исторического мышления. Последовательно писал и издавал части философско-исторического труда «Постижение истории» (т. 1-12, 1934-1961 гг.). Это исследование он начал в 1927 г. Итоги подведены в книге «Изменения и привычки» (1966 г.). В «Постижении истории» разработал и изложил собственную теорию цивилизации… Тойнби рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «единого дерева истории». Цивилизация, по Тойнби — замкнутое общество, характеризующееся при помощи двух основных критериев: 1) религия и форма её организации; 2) территориальный признак, степень удалённости от того места, где данное общество первоначально возникло.[2] Тойнби выделяет 21 цивилизацию… Тойнби о России: Например, коммунизм Тойнби рассматривал как «контрудар», отбивающий назад то, что Запад навязал в XVIII в. в России. Экспансия коммунистических идей лишь один из неизбежных ответов на противоречие «между западной цивилизацией как агрессором и другими цивилизациями как жертвами». Свидетель гибели викторианской Англии, двух мировых войн и распада колониальной системы, Тойнби утверждал, что «на вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру незападный облик». Тойнби предсказывал, что в 21 в. определяющим историю Вызовом станут выдвинувшая собственные идеалы Россия (которую Запад не жаждет принять в свои объятия), исламский мир и Китай».
В эту эпоху там, где прежде существовали примитивные общества, возникло две или более цивилизации. Археологические исследования дают возможность рассматривать процесс иссушения земель как вызов, ответом на который стало возникновение цивилизаций. Общины охотников и собирателей афразийских саванн, не изменив в ответ на вызов ни своего местопребывания, ни своего образа жизни, вымерли. Но те, которые изменили свой образ жизни, превратившись из охотников в пастухов, искусно ведущих свои стада по сезонному маршруту миграции, стали кочевниками Аравийской степи. Были общины, которые ответили на вызов засухи изменением общины и образа жизни, и эта редкая двойная реакция означала динамический акт, который из исчезающих примитивных обществ Афразийской степи породил Древнеегипетскую и шумерскую цивилизации. Перемена образа жизни стимулировала творческий акт превращения собирателей в земледельцев. Перемена родины была не столь значительной территориально, но огромной с точки зрения изменения самого характера среды. Люди оставили старые пастбища и шагнули в болота новой родины. Когда пастбища нильской долины стали Ливийской пустыней, а пастбища долин Тигра и Ефрата — пустынями Руб-аль-Хали и Дешти-Лут, героические первопроходцы, вдохновляемые храбростью или отчаянием, двинулись в эти гиблые места и своим динамическим актом превратили их в благодатные земли Египта и Сеннаара. Возможно, их соседи наблюдали за смелым предприятием со слабой надеждой на успех, ибо в прежнюю эпоху, когда земли эти еще не превратились в негостеприимную Афразийскую степь, они были для них земным раем. Тойнби отмечает, что слово «рай», или «парадиз», следует понимать в буквальном смысле соответствующего греческого слова. Оно является транслитерацией персидского слова, обозначающего саванную территории, специально предназначенную для охоты и окруженного границей. Эти земли принадлежали правящему меньшинству и искусственно сохранялись в девственном состоянии. В древности это были угодья для примитивной охоты.
Успех превзошел самые оптимистические надежды первопроходцев. Природа была покорена трудом человека. Болота были дренажированы, ограждены дамбами и превращены в поля. Появились египетская и шумерская цивилизации. Их генезис является результатом однотипных ответов на вызов природной среды. Материальная культура этих двух цивилизаций, по мнению английского ученого, однотипна. Духовные же характеристики — религия, искусство и даже общественная жизнь — обнаруживают меньше сходства. Испытания, через которые прошли основатели шумерской цивилизации, сохранили шумерские легенды. Убиение дракона Тиамат богом Мардуком и сотворение мира из его останков представляет собой аллегорическое переосмысление покорения первозданной пустыни и сотворение земли Сеннаара. Рассказ о потопе символизирует бунт Природы, восставшей против вмешательства человека. Памятники шумерской цивилизации [4] хранят молчаливое, но точное свидетельство о тех динамических актах, которые, если обратиться к шумерской мифологии, были совершены богом Мардуком, убившим Тиамат, и героем Ут-Напиштимом, построившим ковчег в ожидании потопа и спасшимся в нем во время великого наводнения.
Преодоление европоцентризма заставляло Тойнби, в разные периоды его творчества, обращаться к проблеме истоков западной цивилизации, которые он, следуя научной традиций, находил в античности. Английский ученый пользуется термином «греко-римская цивилизация», и термином «греческая цивилизация», проводя между ними конкретные различия. Он выдвинул концепцию греческой цивилизации как излучения из Греции, представляющего собой четырехмерное излучение в пространстве-времени. Примерами служат факты из истории искусств и финансовой системы. В сериях монет наблюдается простой случай вырождения. Здесь искусство чеканки становится все беднее, постепенно ухудшаясь по мере удаления в пространстве и времени от Греции IV в. до н.э. Другая «кривая», направленная не в Галлию и Британию, а в Китай и Японию, имеет сходное начало. Но по мере того, как греческое искусство «эллинистического» и раннего «имперского» периодов распространяется на восток через пространство исчезнувшей империи персов, достигая Афганистана, оно становится все более условным, серийным и безжизненным, затем происходит нечто, похожее на чудо. В Афганистане это дегенерирующее искусство сталкивается с другой духовной силой, излучаемой из Индии — буддизмом махаянистского толка. «Выродившееся», по выражению историка, греческое искусство, соединившись с искусством махаяны, рождает совершенно новую и в высшей степени творческую цивилизацию — цивилизацию хаянистского буддизма, которая распространилась к северо-востоку через всю Азию, став в конечном итоге цивилизацией дальнего Востока. Здесь, подчеркивает ученый, мы сталкиваемся с одним удивительным свойством этих духовных волн. Хотя их естественная тенденция сводится к ослаблению по мере распространения, эта тенденция может быть нейтрализована и преодолена, если сталкиваются и сливаются две волны, излучаемые из разных центров. Слияние греческой и индийской волн способствовало рождению буддийской цивилизации Дальнего Востока. Эта же греческая волна слилась с сирийской, и этот союз дал жизнь христианской цивилизации Западного мира.
А. Тойнби подчеркивает, что в истории существуют вызовы, с которыми сталкиваются многие цивилизации. Греко-римская история именно потому представляет интерес, что греческая цивилизация надломилась в V в. до н. э., не сумев найти достойного Ответа на тот самый Вызов, который сегодня стоит перед западной цивилизацией. В течение VI в. до н. э. греческая колониальная экспансия практически прекращается, отчасти из-за успешного сопротивления жертв экспансии, отчасти благодаря политической консолидации соперников Греции по колонизации, западной части средиземноморья со стороны Леванта: Карфагенской и Этрусской держав на западе и Лидийского царства, которое сменила более мощная Персидская империя на Востоке. Ученый отмечает, что в тот период, который считается наиболее выдающимся веком греческой цивилизации, в конце VI в. и начале V в. до н.э., сами греки ощущали себя окруженными и стесненными со всех сторон. Он ссылается на Фукидида, который писал, что со времен Кира и Дария Элладу теснили со всех сторон в течении длительного времени, вследствие чего в этот период она не добилась каких-либо выдающихся достижений, более того, жизнь в городах-государствах замирает. Вместе с тем, в этот период, начиная с VI в до н.э., Греция успешно решает новую экономическую проблему, вставшую перед ней вследствие прекращения географической экспансии. Греция решила экономическую проблему путем успешного перехода от чисто экстенсивной к более и более интенсивной хозяйственной системе. Это был переход от смешанного хозяйства, предназначенного для местного потребления, к специализированному хозяйству, ориентированному на экспорт. Революция в сельском хозяйстве вызвала общую революцию в экономической жизни общества, поскольку новое, специализированное хозяйство потребовало развития торговли и производства. Однако решение экономической проблемы в свою очередь вызвало к жизни политическую проблему, с которой греческой цивилизации справиться не удалось. Именно политическая несостоятельность и стала причиной распада страны. Пока экономика каждого из городов-государств была замкнута на ограниченное, локальное потребление, эти полисы могли позволить себе оставаться замкнутыми и в политическом отношении. Локальная суверенность каждого полиса могла вызвать, и вызывала, постоянные малые войны. Однако в этих экономических условиях войны не несли с собой социальных катастроф. Новая экономическая система, рожденная этнической экономической революцией под влиянием прекращения греческой колониальной экспансии, была основана на местном производстве для международного обмена. Она могла действовать успешно лишь в том случае, если полисы отказывались от своего экономического местничества и становились взаимозависимыми. А система международной экономической взаимозависимости могла функционировать только в условиях международной политической взаимозависимости, обусловленных некоей международной системой политического законодательства и порядком, которые ограничивали бы анархическую местническую суверенность отдельных полисов [5] .
Такой международный политический порядок в готовом виде преподносили греческим полисам VI и V веков до н.э. Лидийская, Персидская и Карфагенская державы. Персидская империя систематически навязывала упорядоченные политические отношения тем греческим полисам, которые она покорила. Ксеркс пытался завершить этот процесс завоеванием остатков независимых регионов греческого мира. Эти все еще не покоренные греческие полисы успешно сопротивлялись Ксерксу, поскольку греки справедливо полагали, что персидское господство погубит их культуру и цивилизацию. Они не только сохранили свою независимость, но и освободили завоеванные прежде полисы Азиатского материка. Однако, отвергнув персидский способ решения греческой политической проблемы, греки-победители встали перед задачей найти другое решение. Здесь они потерпели фиаско. Одержав победу над Ксерксом в 480-479г.г., они потерпели поражение «от сам их себя» между 428-431г.г. до н.э. Греческой попыткой установить международный политический порядок был Делосский союз, основанный в 470г. до н.э. Афинами и их союзниками под Афинским руководством. Делосский союз был смоделирован по персидскому образцу, но не смог достичь своей цели. Прежняя политическая анархия в отношениях между суверенными, независимыми греческими полисами разгорелась уже в новых экономических условиях, что сделало эту анархию не только пагубной, но и смертельной для цивилизации.
Период распада греко-римской цивилизации в результате неспособности заменить международную анархию международной законностью и порядком составляет, по мнению английского ученого, историю четырех веков — с 431 по 31 год до н. э. Следует помнить, что в эту эпоху складывалась, развивалась и приходила в упадок эллинистическая культура, скрепляющая цивилизационные процессы и определяющая их духовно-мировоззренческие основы.
После четырех столетий невзгод и экспериментов наступил период частичного временного расцвета, в значительной степени обусловленного, на наш взгляд, своеобразным развитием и дифференциацией религии и культуры. Это была эпоха правления обожествляемого Августа, характеризующаяся, помимо утверждения культа императора, многообразием религий, мировоззрений и культур, обусловившей их творческую эволюцию и идейное богатство, без которых было бы невозможным становление христианства в более позднее время. Римскую империю, которую Тойнби рассматривает как международную лигу греческих и других, связанных с ними в культурном отношении, полисов, он считает возможным охарактеризовать как запоздалое решение проблемы, с которой не справился Делосский союз. Но эпитафией римской империи английский мыслитель считает утверждение «слишком поздно». Он подчеркивает, что греко-римское общество почувствовало своеобразное раскаяние лишь после того, как нанесло себе смертельные раны своими собственными руками. Римский мир был миром не созидательным, и уже, поэтому непостоянным. Это был мир и порядок, опоздавший на четыре столетия [6] .
А. Тойнби констатирует, что в последнем веке дохристианской эры греко-римский мир сотрясали войны и революции, волнения и насилия. Этим эпоха была схожа с современностью. Но в середине II в. воцарился мир. Пространство от Индии до Британии, в котором с войнами утверждалась греко-римская цивилизация, было разделено на три государства, которые сосуществовали относительно мирно, без больших войн. Весь греко-римский мир оказался поделенным между Римской империей — вокруг Средиземноморья; Парфянской империей — в Иране и Ираке; и Кушанской империей — в Центральной Азии, Афганистане и Индостане. Создатели и правители этих империй не относились к грекам по происхождению, но они, хотя и не в одинаковой степени, считали своим долгом и честью, т.е. из моральных соображений, поддерживать греческую культуру и сохранять провинции, где был еще жив греческий образ жизни.
В эту эпоху греки и эллинизированные или полуэллинизированные восточные народы и варвары, в большей или меньшей степени подверженные влиянию античной и эллинистической культуры, могли сосуществовать под прикрытием римско-парфянско-кушанского мира. Память о войнах и революциях потускнела. Произошли существенные изменения в культуре, по крайней мере, в том ее сегменте, который современные культурологи называют «социальной памятью». Произошли изменения и в элитах как хранителях социальной памяти. Формировались контрэлиты и контркультуры.
В работах Тойнби предпринимается попытка определить культурологическое противоречие эпохи. Общественная жизнь стабилизировалась благодаря конструктивным мерам цивилизованных государств и правителей. Жизнь стала более безопасной и устойчивой, но, как считает английский мыслитель, именно по этой причине и более «тусклой» не только в политическом, но и в духовном отношении. «Подобно гуманным анестезиологам, все же Цезари и Аршаки вытащили жало из тех жгучих когда-то экономических и политических проблем, которые в том, уже полузабытом, прошлом, были и стержнем и погибелью человеческом жизни. Великодушная акция умелого авторитарного правления непроизвольно создала духовный вакуум в душах людей» [7] .
Естественно, что в обществе возникла проблема заполнения этого духовного вакуума, и этот вопрос был главным в жизни греко-римского мира II века. Но просвещенные государственные деятели и философы еще не осознавали важности и актуальности вопроса. Первыми, кто расшифровал знак времени и предпринял действия в духе требований эпохи, были скромные миссионеры нескольких ориентальных религий. В затянувшемся столкновении между миром и греко-римской цивилизацией эти проповедники незнакомых религии мягко и аккуратно перехватили инициативу у греков и римлян, сделав это почти незаметно. В силовом противоборстве греков и римлян с миром течение уже было повернуто вспять. Греко-римское наступление потеряло свою мощь. Оформлялось сопротивление, хотя этого еще не и осознавали, поскольку оно началось в другой сфере. Греко-римское наступление шло в военном области, а контрнаступление началось в области религиозной, А.Тойнби выделяет три фактора успеха этого нового движения в мире.
Одним из факторов, которые во втором веке способствовали возникновению и распространению новых религий, были усталость и апатия, вызванные столкновением культур. Восточные народы ответили на трансляцию греческой культуры двумя противоположными реакциями. Были государственные деятели школы Ирода Великого, полагавшие, что лучшим средством для приспособления к греко-римскому культурному климату, была акклиматизациям и были фанатики, считавшие, что следует, напротив, не замечать изменения климата, и вести себя так, как будто вокруг ничего не изменилось. После изнурительных испытаний обеих стратегий фанатизм дискредитировал себя как разрушительная сила, а политика Ирода обернулась чувством неудовлетворенности, тем самым тоже себя дискредитировав. Любой из альтернативных способов ведения «культурной войны» заводил в тупик. По выражению английского мыслителя, мораль такова, что никакая культура не способна исполнить свое высокомерное притязание на то, чтобы стать «духовным талисманом». Умы и сердца, разочарованные и лишенные иллюзий, открывались новому провозвестию, обещающему возвысить их над этими бесплодными притязаниями и контрпритязаниями. В этих условиях появляется возможность возникновения нового общества, где не будет ни скифа, ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского пола, ибо все люди — одно во Христе Иисусе, или Митре и Кибеле, а может быть, в одном из бодхисатв, Амитабе или Авалокитешваре. По мнению Тойнби, первым секретом успеха новых религий является предложенный ими идеал человеческого братства, а вторым — то, что эти новые общества открыты для всех людей без различия культур, классов или пола, а также то, что они ведут к спасительному единению со сверхчеловеческим существом, ибо тот урок, что человек без милости Бога не может состояться как личность уже заложен в душах поколения, ставшего свидетелем трагических социальных изменений, поколения, за которым по иронии исторических судеб последовал вселенский мир.
В богах, воплощенных в новых религиях, люди, по замечанию английского мыслителя, наконец-то увидели высшие существа, которым можно целиком посвятить свое сердце, душу и все свои жизненные силы.
«Митра будет вести вас, как надежный капитан. Изида обогреет, как ласковая мать. Христос отказался от своей божественной мощи и славы, чтобы воплотиться в человеческом облике и претерпеть смерть на Кресте ради нас, людей. Точно так же, ради людей, и Бодхисатва, уже достигший Нирваны, отказался сделать последний шаг в блаженство. Этот героический первопроходец сознательно обрек себя на беспокойный и горестный труд земного существования, пойдя на эту крайнюю жертву ради любви к ближнему своему, чей путь к спасению только он мог направлять, самоотверженно оставаясь чувствующим и страдающим здесь, на Земле» [8] .
А. Тойнби пишет что, если заглянуть в души греков и римлян поколения Марка Аврелия, то мы найдем там тот же духовный вакуум, ибо эти покорители мира, как и их сегодняшние западные «двойники», уже давно утратили религию своих предков. Тот образ жизни, который они выбрали для себя и стали предлагать всем варварам и ориентальным народам, так или иначе попавшим под влияние греческой культуры, был светским образом жизни, где интеллект призван служить душе, вырабатывая философии, долженствующие занять место религии. Эти философии должны были дать простор разуму и, тем самым, привязать душу к начальному циклу природы. Разочарованное в традиционной культуре греческое и римское меньшинство фактически испытывало тот же духовный голод, который испытывает и большая часть современного человечества. Однако, отмечает мыслитель, те новые религии, которые обращались ко всем без различия пола, возраста и положения, пришли бы в противоречие с распространенными философскими мировоззрениями, если бы они не принимали традиционных интеллектуальных форм. Все они, от буддизма до христианства, внешне представлялись в виде «греческого стиля искусства», а христианство пошло еще дальше, принимая обличье интеллектуальной греческой философии. Нельзя предвидеть будущее, однако кое-что из того, что уже случилось в истории, открывает, по крайней мере, одну из возможностей развития общества.
Современные исследователи указывают, что многие прогнозы английского ученого, прежде всего те, которые относились к взаимоотношениям Запада и России, сбылись. Прогностические возможности этой теории были инспирированы продуктивными попытками интегративного подхода к содержанию исторического процесса. Разработка культурологических подходов в социологической теории позволила определить тенденции развития цивилизационных процессов, последствия взаимодействия социокультурных систем. Историческая и социальная культурология, получившие концептуальное выражение в рамках социологии, способствовали постижению единства и многообразия не только исторического, но и культурного процесса, классификация цивилизаций, в основу которой положены религиозные мировоззрения, относительна и непоследовательна, как и определенные мировые религии, но она может служить моделью, «идеальным типом» исследования социокультурных реалий. В этой классификации, как и в определении содержания религиозных систем, ценной представляется попытка обоснования единства культурного становления человека и общества в конкретных исторических условиях и обстоятельствах, «культурных эпохах».
 Рис. 2. «Профессор истории Арнольд Тойнби выступал на ритовских лекциях в 1952 году [9] . Он исследовал историю вражды между Востоком и Западом, и рассмотрел, как жители незападных стран того времени видели западный мир. В его второй лекции изучалось потенциальное влияние вестернизации на мусульманские страны. (BBC)»
Рис. 2. «Профессор истории Арнольд Тойнби выступал на ритовских лекциях в 1952 году [9] . Он исследовал историю вражды между Востоком и Западом, и рассмотрел, как жители незападных стран того времени видели западный мир. В его второй лекции изучалось потенциальное влияние вестернизации на мусульманские страны. (BBC)»
В культурологических исследованиях цивилизационный подход к историческому процессу, его конкретному социокультурному содержанию себя не исчерпал. В методологическом аспекте этот подход, продуктивный для исторической и социальной культурологии, может сочетаться с формационным подходом. Для культуролога, исследующего соотношения категорий «культура» и «цивилизация», общественно-экономическая формация в методологическом смысле должна представлять собой единство базиса или экономической структуры общества и надстройки, включающей многообразные, в том числе и религиозные идеи и идеологии, которые рассматриваются как выражение конкретных социокультурных обстоятельств. Необходимо помнить указание Г.В. Плеханова, что базис утверждается в истории посредством надстройки, т.е., и религиозных идей, идеологий и институтов. В этом специфика диалектики культурного прогресса, реализующегося как тенденция истории, в условиях многоаспектного взаимодействия, включающего и борьбу, и дифференциацию, и интеграцию, множества культур и цивилизаций, существующих и развивающихся в конкретном времени и пространстве, экономических, геополитических, социально-политических и религиозных границах, несовпадающих в истории наций, народов и государственных объединении.
Вы можете помочь развитию нашего проекта, нажав в правом верхнем углу главной страницы сайта клавишу «Пожертвовать» или перечислить по вашему желанию средства с любого терминала на наш счет — Яндекс Деньги – 410011416569382
©Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент, 2011 г.
©Редактирование и оформление, Арушанов Сергей Зармаилович 2011 г.
[1] Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.//полис,1994, № 1, с.ЗЗ
[2] Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.//полис,1994, № 1, с.З4
[3] Адрес ссылки в Интернете — Арнольд Джозеф Тойнби – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%E9%ED%E1%E8,_%C0%F0%ED%EE%EB%FC%E4_%C4%E6%EE%E7%E5%F4
[4] Тойнби А. Постижение истории. М. 1991, с.113-115
[5] Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1996, с.46-49.
[6] Тойнби А. Цивилизация перед судом историй. М., 1996, с.51
[7] Тойнби А. Цивилизация перед судом историй. М., 1996, с.51
[8] Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1996, с.192
[9] Адрес ссылки в Интернете — http://fototelegraf.ru/?attachment_id=54758
 Фридрих Ратцель — немецкий географ и этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики, а также теории диффузионизма полагал, что религиозные идеи и представления остаются неразвитыми и искажаются в условиях, когда они отозваны от живой мифологии или находятся под влитием абстрактных учений, связанных с материальной жизнью общества. Религия во всех обществах связана с глубокой мировоззренческой потребностью осознания причинности событий в мире. Для каждого события необходимо найти причину или «виновника». В настоящее время мы хорошо видим, что «корни религии переплетаются» с научными знаниями о мире и природе. Тем не менее, с появлением научных знаний о мире человек продолжает ощущать потребность одушевлять все явления природы. В одухотворении лежит нечто, возвышающее душу человека, что на высших ступенях развития человеческого духа превращается в поэзию и Философию.
Фридрих Ратцель — немецкий географ и этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики, а также теории диффузионизма полагал, что религиозные идеи и представления остаются неразвитыми и искажаются в условиях, когда они отозваны от живой мифологии или находятся под влитием абстрактных учений, связанных с материальной жизнью общества. Религия во всех обществах связана с глубокой мировоззренческой потребностью осознания причинности событий в мире. Для каждого события необходимо найти причину или «виновника». В настоящее время мы хорошо видим, что «корни религии переплетаются» с научными знаниями о мире и природе. Тем не менее, с появлением научных знаний о мире человек продолжает ощущать потребность одушевлять все явления природы. В одухотворении лежит нечто, возвышающее душу человека, что на высших ступенях развития человеческого духа превращается в поэзию и Философию.
Однако нравственные учения не составляют, подчёркивает Ф. Ратцель, первоначальной «основы» религии, а как бы происходят из нее и присоединяются к ней на высших ступенях её развития. На «процессы развития» религии в сознании человека влияют и социальная жизнь человека. Отношение человека к личности высшего существа, которое, возвышаясь над миром, управляет им, и с которым человек находится в личностных отношениях, как правило, не складывается в «чистой форме» или «окрашивается» уровнем духовного развития личности человека. На эти отношения влияли устремления человеческого духа, и, прежде всего, «движения и потребности» его совести, которая является «хранилищем вековечного опыта» опыта души человека. Таким образом, религия получила своё самое важное дополнение – «нравственный элемент». На этом этапе религия начинает влиять на культуру общества. Появляются зачатки науки, искусства и поэзии, в среде жрецов и шаманов.
Таким образом, на низших ступенях «развития религии» человек выступает со своими требованиями, желаниями, приказаниями к духам и фетишам, для выполнения которых он приносит им жертвы. Однако, на высших ступенях «развития религии» духовное начало становится властью, которая награждает и наказывает человека, руководит им, заставляет себе повиноваться.
 Рис. 1. Фридрих Ратцель (нем. Friedrich Ratzel; 30 августа 1844, Карлсруэ — 9 августа 1904, Аммерланд близ озера Штарнбергерзее) — немецкий географ и этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики, а также теории диффузионизма. В системе взглядов немецкого ученого видны многие идеи родоначальника социологии француза Огюста Конта: эволюционизм, признание влияния географической среды на развитие народа, государства, роли демографических и космических факторов в функционировании политических систем, жизни этносов и государства. Влияние О. Конта просматривается в работах Ф. Ратцеля: «Земля и жизнь. Сравнительное землеведение», «Народоведение» и в фундаментальной книге «Политическая география». Профессор Лейпцигского университета (с 1886).
Рис. 1. Фридрих Ратцель (нем. Friedrich Ratzel; 30 августа 1844, Карлсруэ — 9 августа 1904, Аммерланд близ озера Штарнбергерзее) — немецкий географ и этнолог, социолог; основатель антропогеографии, геополитики, а также теории диффузионизма. В системе взглядов немецкого ученого видны многие идеи родоначальника социологии француза Огюста Конта: эволюционизм, признание влияния географической среды на развитие народа, государства, роли демографических и космических факторов в функционировании политических систем, жизни этносов и государства. Влияние О. Конта просматривается в работах Ф. Ратцеля: «Земля и жизнь. Сравнительное землеведение», «Народоведение» и в фундаментальной книге «Политическая география». Профессор Лейпцигского университета (с 1886).
Сосуществование норм религии с появлением норм гражданских законов в обществе понижает её роль в обществе, но, в конечном счёте, открывает путь к высшему положению религиозных норм в обществе. Из этого процесса взаимного влияния и духовной деятельности человека начинают развиваться науки и искусство. Это происходит посредством «разделения» обязанностей жреца на обязанности врача, заклинателя природных сил, скульптора, придворного сказителя и т. д. В конечном итоге, например, в древнем Египте поэзия, искусство и наука оказались связаны с деятельностью касты жрецов, также как и в Греции. В дальнейшем своем развитии они становятся самостоятельными видами духовной деятельности человека.
Объединение светской и духовкой власти обнаруживается на всех ступенях развития человечества. Примером тому служит широко известный в истории тезис – «То, что полезно для общества и государства, считается угодным богам». Духи, связанные с благосостоянием семейства, общества и государства, могут быть только благодетельными. С неизменностью потребности в божестве связываются изменчивые требования нравственности, отвечающие глубинным и, в той или иной степени, благородным потребностям общества, так как ими устанавливались почитание старших, охранение брака и детей. Ратцель отмечает крайнюю эгоистичность законов «табу», связанных с собственностью. Отсюда следует смешение светских и духовных интересов, сплетение светских и духовных законов. Если начальник — святой человек, то возмущение против порядка, во главе которого он стоит, является грехом, и религия помогает в этом случае лёгкому обузданию врагов и разрушителей общественного строя.
Отличие добра от зла, которое учение Моисея с глубоким пониманием жизни ставит в начале появления человека, должно было вырабатываться другим путём. Природа, показывает Ратцель, указывая на вредное и полезное; отсюда, посредством общего одухотворения, эта противоположность переносится в мир духов. Чувство признательности к доброму всегда возобновляется. Человек должен приобретать его и иметь возможность обращаться к нему. Когда всё доброе приписывается душе предка, этим создаётся мифическое воплощение добра. Но добро ещё долго приносит пользу одному липу, а не всему обществу.
Глубокая пропасть между религией, лишенной нравственности, и религией, имеющей её, выражается в «очеловеченной» слабости небожителей.
На большом историческом материале Ратцель старается показать, что наиболее быстрому упадку подвержены всегда духовные элементы культуры. Так как именно они составляют движущие силы прогресса, то уже из этого обстоятельства вытекает большая склонность к застою с неизбежным регрессом. Всем основателям религий были свойственны высшие идеалы, чем их последователям, и история религий бывает историей понижения той высоты, на какую она была вознесена чистым воодушевлением и на какую стремятся поднять себя и своих единомышленников позднейшие реформаторы в переходные эпохи. В монотеизме, подчёркивает немецкий учёный, всегда чувствуется негативный опыт, который не в состоянии оценить молодые народы. Абстрактные (основы) религии не могут быть достоянием широких масс, как и догматика. Фанатизм масс удовлетворяется не чистотой понимания догматов, а запретом на нарушение религиозных традиций. Упадок религии происходит в разделении ее формы и сущности. Ослабление религии может происходить под влиянием внешних факторов, например, сокращение численности населения, ослабление власти, обнищание масс, потеря независимости.
Развитие техники создания художественной произведений искусства может происходить и в обществе, где духовные ценности уходят на второй план. Хотя «форма творений» сохраняется, но Дух в них ослабевает, не оставляя творений, соответствующих его силе и величию. Поэтому у «диких» народов формы произведений, хотя и несовершенные, могут стоять выше по их одухотворенности.
Почти во всех религиях встречаются «искажённые следы» высших представлений, и не только духовных, но и материальных. Понятие о дьяволе, самом выдающемся злом духе, было распространено необразованными европейцами задолго до христианизации, и отражалось в представлениях о дуализме добрых и злых духов. Сказания о творении мира и потопе, с их замечательными сходными чертами, имеют слишком общее распространение и слишком глубоко сплелись со всей мифологией, чтобы приписывать им более раннее и случайное происхождение. По мнению Ратцеля, они отчасти принадлежат мировому мифу, начала которого предшествовали христианству.
Вера в существование душ и почитание предков общи для всего человечества. К этому примыкает и одушевление природы. Одушевление черпает из одних и тех же источников одинаковые обычаи, связанные с суевериями. Основой суеверий в прошлом и настоящем является страх не только перед природой, но и перед смертью. Вследствие этого отмечается сходство людей, которым приписывается власть над конкретными предметами и явлениями.
Всякая мифология поднимается выше частных влияний, связанных с местными условиями жизни. Факты оказываются связанными одинаковыми основными идеями, из которых создаётся «мировой миф». Разрыв между христианской религией и религиями «диких» народов обнаруживается, когда речь заходит о нравственных законах. Насаждение новой религии всегда сопровождается культурными преобразованиями и не может быть делом одного поколения. Успех распространения христианства зависит от глубокого понимания содержания этого учения миссионерами, и их знания культуры народа, на который направлена эта проповедническая деятельность. Эта деятельность предполагает и адекватные экономические и политические условия распространения новых идей (покровительство или терпимость со стороны местной знати, реальная польза от конкретных действий миссионеров и т.д.). Переход к лучшему состоянию жизни общества может произойти только в форме «экономической революции», которая принесёт благо, но вместе с тем и вред, и последний даже скорее, чём первое, особенно, когда люди довольны своим существованием. Миссионер должен исходить из понимания, что «высшая» культура действует разрушительным образом на жизненные условия язычников, и что этот переход он может смягчить только практической подготовкой учеников. Но он не должен являться им в виде ремесленника или купца, так как это противоречит мистическому элементу, заключающемуся в деятельности жречества. В разумном соединении «отречений» с практической работой миссионера, спокойно созерцающего реалии чужой культуры, заключается его успех, особенно, когда он врачует, не только души, но и тела.
Большой интерес представляет оценка Ф. Ратцелем ислама в связи с его распространением среди населения регионов мира, где: распространены языческие, политеистические и архаичные религиозные верования. Немецкий ученый отмечает большую «доступность» положений ислама для верующих. Ислам соответствует потребностям общественной и государственной жизни народов, стоящих на низших ступенях цивилизованности, по крайней мере, по сравнению с Европой эпохи Нового времени, характеризующейся экономическим, геополитическим и культурным единством. Он связан с культурой, которая для народов тем ближе, чем ближе географически и климатически находятся от них места происхождения ислама.
Современные исследователи подчеркивают, что, например, — «в мусульманской умме [1] («сообщество») проблема смысла жизни не превращалась в личностную и общественную трагедию. Даже в случае социальной деградации и распада того или иного мусульманского общества ислам обеспечивал воспроизводство системы ценностных критериев, не допускавших разрушительного кризиса личности». (Ш. Султанов).
 Рис. 2. «Исла́м [2] (араб. إسلام [ʔɪsˈlæːm]) — монотеистическая мировая религия. Слово «ислам» переводится как «покорность», «подчинение» (законам Аллаха)[1]. В шариатской терминологии ислам — это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, его приказам и запретам, отстранение от многобожия (ширк). Приверженцев ислама называют мусульманами. Главная священная книга ислама — Коран. Язык богослужения — классический арабский. В окончательном виде ислам был сформулирован в проповедях пророка Мухаммеда. С точки зрения ислама, народы отошли от первоначального пути, который был указан им Аллахом, a священные тексты древних книг постепенно искажались[2]. Каждый раз для возвращения к истинной вере (исламу) Аллах отправлял к разным народам своих посланников, в том числе Авраама, Моисея, Иисуса[3]. Последним посланником в среде пророков, с точки зрения всех мусульман, является Мухаммад, принесший человечеству веру в очищенном и первозданном виде … Дар аль-ислам [3] (араб. دار الإسلام — мусульманский мир, земля ислама, вся территория, где господствует ислам) — традиционное мусульманское обозначение территорий, где действует мусульманский религиозный закон и где политически господствуют мусульмане. Эта часть мира противопоставляется дар аль-харб (земле войны) — территориям, где ислам не господствует. По воззрениям мусульман, дар аль-ислам по воле Аллаха распространится на весь мир, даже если этому будут мешать все неверующие люди и джинны на Земле. Естественной реакцией дар аль-ислам на бесчинства дар аль-харб является джихад — борьба в защиту чести, имущества и крови мусульман, проживающих в дар аль-харб. Но всеобщий джихад имеет очень много условий, одно из которых — единый мусульманский правитель. Джихад — вообще очень широкое понятие, и наиболее сложный и важный джихад для любого мусульманина — это борьба с собственными страстями. Правильный перевод слова джихад — это приложение усилий на пути к чему-либо. в Шариате (исламском законе) джихад означает приложение усилий на пути приближения к Аллаху. Существует множество способов этого. Например, соблюдение поста, намаз, чтение Корана и даже отведение взгляда от оголённых женщин, или ношение хиджаба. Военный поход — в случае явной несправедливости (притеснения, убийства, изгнания из жилищ) неверующих по отношению к мусульманам. Существует также понятие о дар ас-сульх, или дар аль-ахд (земле мирного договора, или земле договора), — территориях промежуточного характера, где при сохранении политической власти немусульман мусульмане находятся под защитой и пользуются религиозной свободой. Данное законоположение установлено во время ниспослания Корана более 1400 лет назад и будет действовать до Судного дня. Мусульманам неоднократно приказывается в Коране относиться к иудеям и христианам по справедливости. Особенно отмечены христиане, так как они «не высокомерны» и «сохранят даже кантар золота, если им доверишь». Деление на дар аль-ислам и дар аль-харб и по сей день играет значительную роль в мусульманских политических доктринах, однако оно не предусматривает обязательность войны между ними. Концепция дар ас-сульх является идейным обоснованием возможности сосуществования мусульманской и немусульманских политических систем».
Рис. 2. «Исла́м [2] (араб. إسلام [ʔɪsˈlæːm]) — монотеистическая мировая религия. Слово «ислам» переводится как «покорность», «подчинение» (законам Аллаха)[1]. В шариатской терминологии ислам — это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, его приказам и запретам, отстранение от многобожия (ширк). Приверженцев ислама называют мусульманами. Главная священная книга ислама — Коран. Язык богослужения — классический арабский. В окончательном виде ислам был сформулирован в проповедях пророка Мухаммеда. С точки зрения ислама, народы отошли от первоначального пути, который был указан им Аллахом, a священные тексты древних книг постепенно искажались[2]. Каждый раз для возвращения к истинной вере (исламу) Аллах отправлял к разным народам своих посланников, в том числе Авраама, Моисея, Иисуса[3]. Последним посланником в среде пророков, с точки зрения всех мусульман, является Мухаммад, принесший человечеству веру в очищенном и первозданном виде … Дар аль-ислам [3] (араб. دار الإسلام — мусульманский мир, земля ислама, вся территория, где господствует ислам) — традиционное мусульманское обозначение территорий, где действует мусульманский религиозный закон и где политически господствуют мусульмане. Эта часть мира противопоставляется дар аль-харб (земле войны) — территориям, где ислам не господствует. По воззрениям мусульман, дар аль-ислам по воле Аллаха распространится на весь мир, даже если этому будут мешать все неверующие люди и джинны на Земле. Естественной реакцией дар аль-ислам на бесчинства дар аль-харб является джихад — борьба в защиту чести, имущества и крови мусульман, проживающих в дар аль-харб. Но всеобщий джихад имеет очень много условий, одно из которых — единый мусульманский правитель. Джихад — вообще очень широкое понятие, и наиболее сложный и важный джихад для любого мусульманина — это борьба с собственными страстями. Правильный перевод слова джихад — это приложение усилий на пути к чему-либо. в Шариате (исламском законе) джихад означает приложение усилий на пути приближения к Аллаху. Существует множество способов этого. Например, соблюдение поста, намаз, чтение Корана и даже отведение взгляда от оголённых женщин, или ношение хиджаба. Военный поход — в случае явной несправедливости (притеснения, убийства, изгнания из жилищ) неверующих по отношению к мусульманам. Существует также понятие о дар ас-сульх, или дар аль-ахд (земле мирного договора, или земле договора), — территориях промежуточного характера, где при сохранении политической власти немусульман мусульмане находятся под защитой и пользуются религиозной свободой. Данное законоположение установлено во время ниспослания Корана более 1400 лет назад и будет действовать до Судного дня. Мусульманам неоднократно приказывается в Коране относиться к иудеям и христианам по справедливости. Особенно отмечены христиане, так как они «не высокомерны» и «сохранят даже кантар золота, если им доверишь». Деление на дар аль-ислам и дар аль-харб и по сей день играет значительную роль в мусульманских политических доктринах, однако оно не предусматривает обязательность войны между ними. Концепция дар ас-сульх является идейным обоснованием возможности сосуществования мусульманской и немусульманских политических систем».
 Рис. 3. «20 апреля 2011 года в столице Ингушетии г. Магас состоится торжественное мероприятие по закладке камня под строительство Соборной мечети и Исламского учебно-культурного центра [4] . Реализация проекта состоит из двух этапов. Первая очередь — мечеть, минареты, соборная площадь и парковки, закладка парка. Вторая очередь – университет, общежитие, духовное управление, культурно-торговый центр, инфраструктура и коммуникации. Срок реализации проекта — 2,5 года. Площадь застройки мечети 11000 кв.м. Диаметр купола 50м. Высота минаретов 64 м. Мечеть рассчитана на 8000 человек. Сбор средств для строительства комплекса осуществляет некоммерческая организация фонд «Азан». Фонд «Азан» учрежден в ноябре 2010 года при поддержке Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, духовенства, Муфтията, широкой общественности. Председателем Попечительского Совета является член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Ингушетия Поланкоев Ахмет Магомедович». (Пресс-служба Главы РИ). Для сравнения – «Храм Христа Спасителя [5]— самый большой собор Русской Православной Церкви, он вмещает до 10 000 человек. В горизонтальном сечении напоминает равносторонний крест шириной свыше 85 метров. Высота нижнего блока около 37 метров, высота барабана – 28 метров, высота купола с крестом – 35 метров. Общая высота сооружения – 103 метра, внутреннего пространства — 79 метров, толщина стен до 3,2 метра, объем здания 524 000 куб. метров. Площадь росписи Храма — более 22 000 кв. метров, из них более 9000 кв. метров золочения сусальным золотом».
Рис. 3. «20 апреля 2011 года в столице Ингушетии г. Магас состоится торжественное мероприятие по закладке камня под строительство Соборной мечети и Исламского учебно-культурного центра [4] . Реализация проекта состоит из двух этапов. Первая очередь — мечеть, минареты, соборная площадь и парковки, закладка парка. Вторая очередь – университет, общежитие, духовное управление, культурно-торговый центр, инфраструктура и коммуникации. Срок реализации проекта — 2,5 года. Площадь застройки мечети 11000 кв.м. Диаметр купола 50м. Высота минаретов 64 м. Мечеть рассчитана на 8000 человек. Сбор средств для строительства комплекса осуществляет некоммерческая организация фонд «Азан». Фонд «Азан» учрежден в ноябре 2010 года при поддержке Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, духовенства, Муфтията, широкой общественности. Председателем Попечительского Совета является член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Ингушетия Поланкоев Ахмет Магомедович». (Пресс-служба Главы РИ). Для сравнения – «Храм Христа Спасителя [5]— самый большой собор Русской Православной Церкви, он вмещает до 10 000 человек. В горизонтальном сечении напоминает равносторонний крест шириной свыше 85 метров. Высота нижнего блока около 37 метров, высота барабана – 28 метров, высота купола с крестом – 35 метров. Общая высота сооружения – 103 метра, внутреннего пространства — 79 метров, толщина стен до 3,2 метра, объем здания 524 000 куб. метров. Площадь росписи Храма — более 22 000 кв. метров, из них более 9000 кв. метров золочения сусальным золотом».
Миссию христианства надо представлять в связи с другими культурными силами, на которых она действует, стимулируя или задерживая их развитие Тайные союзы, естественным образом возникающие в обществах, где нет причин для разделения сословий, используют религиозные формы для поддержания уважения к преданию, напоминающие тайные средневековые судилища христианской Европы.
В работах «Антропогеография» (1882); «Народоведение» (1893); «Политическая география» (1897); «О законах пространственного роста государств» (1901) Ратцелъ доказывает, что расширение географического горизонта, плод не только телесных, но и духовных усилий бесчисленных поколений, отдаёт в распоряжение пространственного роста народов всё новые области, причём каждая ступень «духовного захвата» земли находит и своё политическое выражение. Чтобы всякий раз политически овладеть растущими пространствами, связать и удержать их, требовались всё новые силы, которые могли развиваться лишь медленно, по мере роста культуры и посредством её.
В своей работе Антропогеография Ратцель пишет [6] :«… что возможно установить единство всего человечества, несмотря на все нынешние различия. Описывая различия рас, автор приходит к выводу, что ни одна раса не представляет собой совершенно обособленной, естественной группой. Географическое распространение рас на земле в некоторых отношениях сходно с областями распространения известных растений и животных и показывает, что все живые существа подчиняются в более или менее одинаковой степени воздействиям внешней среды. Социальное неравенство между низшими расами расширяет пропасть с представителями высшей расы. Как пример, Ратцель приводит тот факт, что, например, в США случаются браки между белыми и неграми, но лишь в низших слоях населения. В Сибири русский чиновник, офицер не женится на бурятке, мещанин или крестьянин – сплошь-да-рядом».
Идеи и материальные блага распространялись от мелких начальных и исходных пунктов, находили новые пути для распространения и расширяли свою область. Они становились предтечами роста государства, пользующегося теми же средствами и распространяющегося на те же области. Особенно тесная связь, подчёркивает немецкий мыслитель, отмечается между расширением политической власти и распространением религий. Однако религиозный фактор уступает большему влиянию экономического взаимодействия.
Такие побудительные силы роста государств, как экономика, политика и религия, питает увеличивающаяся с культурой численность населения. Все великие государства прошлого и настоящего принадлежат культурным народам. Вместе с тем, великие носители культуры не всегда бывали самыми сильными создателями государств, ибо образование государства является лишь одним из применений культурных сил к истории, реализующихся при особых условиях. Рост государств является лишь одной из форм политического овладения пространством. Есть другие формы расширения, распространяющиеся быстрее роста государства, предшествующие ему и подготавливающие для него территорию. Существует известная общая жизнь всего человечества, состоящая из «идей и материальных благ», стремящаяся стать предметом обмена между народами. Государствам редко удавалось ограничить политические пределы распространению тех или других. Правилом является скорее то, что они влекут за собой государства на путь, ими проторенный. Проникнутые тем же стремлением к распространению и распространяясь теми же путями, идеи и товары, миссии и купцы, часто действуют сообща, совместно, сближая народы, усиливая их сходство и подготавливая, таким образом, почву для политического сближения и объединения. В степени такой подготовки заключается главное различие в образовании государств на низшей и высшей ступенях культуры.
Ф. Ратцель подчёркивает близость национальных идей религиозным, поскольку они опираются в большей степени на «тёмное чувство, чем на ясное сознание». Национальные идеи, силу которых доказывает история Германии и Италии, являются побудителями политического брожения, как это показывает история юго-восточной Европы со времён греческой и сербской борьбы за независимость. Они оживляют славное прошлое, в чём большую роль играют и воспоминания о большем пространственном распространении, и превращают его в идеал политически «павшего» народа. Немецкий учёный последовательно и аргументировано связывает культуру с социальной памятью, которые невозможно отделить от религии. Религиозная жизнь связывается с процессами религиозного единения. Все древние государства были теократиями.
Человечество, подчёркивает Ратцель, всегда чувствовало потребность в объединяющих идеях. Уже у первобытных народов религиозные связи предшествуют политическим. Религиозное единство, выражающееся в культуре, выходит далеко за пределы политических границ.
Из воззрений Ф. Ратцеля, несмотря на европоцентристские тенденции его теоретического мышления, следует, что диффузия культур, взаимодействующих в реальных социоисторических пространствах, может быть условием их множественности и диалога. Это, в свою очередь, может способствовать прогрессу цивилизаций, как и свободный выбор человеком мировоззренческих и культурных ориентаций. Немецкий историк, социолог и геополитик предпринял попытку интеграции знаний, необходимых для разработки подхода к историческому процессу, который в современную эпоху считается полипарадигмальным. Его заслугой является попытка постичь историю религии как целостный процесс, имеющий культурный смысл. Стадиальный подход к истории, включающий понимание смысла и содержания культурных процессов, вероятно, не исчерпал своих эвристических возможностей, по крайней мере, в связи с цивилизационным подходом. Геоцивилизационный аспект исторического процесса остается в современный период важнейшей проблематикой социогуманитарных исследований, обобщающих и достижения социальной культурологии.
©Арушанов Виктор Зармаилович, к.ф.н., доцент, 2011 г.
©Редактирование и оформление, Арушанов Сергей Зармаилович 2011 г.
При изготовлении Заставки к статье использован фрагмент картины художника Василия Нестеренко, который участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве — http://whictly.my1.ru/news/khudozhnik_vasilij_nesterenko_1chast_dukhovnaja_zhivopis/2010-02-23-43
Приложение:
Интересные статистические данные о населении
По материалам публикации [7] — «95% населения — идиоты». «Как утверждает сам Гоблин (Дмитрий Юрьевич Пучков), это научный факт, по-видимому, доказанный профессором Савельевым, из которого следует, что читающий эту статью, с вероятностью 0,95 идиот, как и её авторы.
«2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать». (Бернард Шоу).
«Всякая творческая личность должна быть уничтожена, ибо она мешает спокойно жить» — вот лозунг девяноста пяти процентов населения земного шара. Девяносто пять процентов всего населения считают, что их беды, нищета, болезни, преждевременная смертность и т. д. зависят от пяти процентов — творческих личностей, которые съедают всё (то) что, недоедают девяносто пять процентов. … Они злостно ненавидят эти пять процентов творческих личностей и готовы перегрызть им горло».
(К. Э. Циолковский, Из книги А. Л. Чижевского «На берегу вселенной»).
«Спросите сто человек, в каком виде желательно им выполнение такого-то предмета. Восемьдесят из них не сумеют ответить и предоставят разрешение вопроса на усмотрение фабриканта. Пятнадцать человек будут чувствовать себя обязанными кое-что сказать, и лишь пять человек, выскажут обоснование и толковое пожелание и требование. Первые девяносто пять человек, которые слагаются из ничего не понимающих и сознающихся в этом и из тех, которые точно так же ничего не понимают, но не желают в этом сознаться – это и есть настоящий контингент покупателей вашего товара».
(Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»).
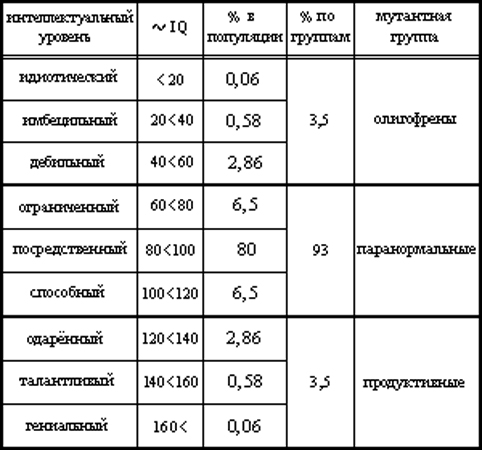 Рис. 4 Таблица, которую вымарал Главлит из совершенно секретного исследования советских ученых, проведенного по заказу Горбачева и предназначенного для внутреннего употребления членами Политбюро секретарей ЦК КПСС. (Слово «паранормальные» — в правом столбце таблицы употреблено авторами таблицы не совсем корректно. Пара – означает за пределами. Поэтому надо понимать здесь разговор идет о сознании людей «за границами» сознания олигофренов. Обратите внимание, что процент олигофренов и продуктивных один и тот же – 3,5%. Не исключено, что во всех, известных нам, исторических периодах существования человечества общее распределение в «мутантных группах» было одним и тем же?!).
Рис. 4 Таблица, которую вымарал Главлит из совершенно секретного исследования советских ученых, проведенного по заказу Горбачева и предназначенного для внутреннего употребления членами Политбюро секретарей ЦК КПСС. (Слово «паранормальные» — в правом столбце таблицы употреблено авторами таблицы не совсем корректно. Пара – означает за пределами. Поэтому надо понимать здесь разговор идет о сознании людей «за границами» сознания олигофренов. Обратите внимание, что процент олигофренов и продуктивных один и тот же – 3,5%. Не исключено, что во всех, известных нам, исторических периодах существования человечества общее распределение в «мутантных группах» было одним и тем же?!).
Мнение психологов
«95 процентов людей на Земле — инертная масса. Один процент составляют святые и ещё один — непроходимые кретины. Остаётся три процента — те, кто могут чего-то добиться… и добиваются». (Стивен Кинг, «Мёртвая зона»).
Дебильность
Дебильность — легкая степень малоумия (IQ от 50 до 75). Её трудно отличить от психики на нижней границе нормы. Поведение дебилов достаточно адекватно и самостоятельно, речь развита. Поэтому дебильность замечается не сразу, а обычно в процессе начального обучения. В подростковом возрасте, когда дебильность особенно проявляется, обнаруживаются дефекты в абстрактном мышлении. Дебилами все понимается буквально, переносный смысл пословиц, метафор не улавливается. Лица, страдающие дебильностью, овладевают преимущественно конкретными знаниями, усвоение теоретических знаний им не дается.
Дебилы нередко легко приспосабливаются к жизни (вне систем образования и науки). Как правило, они становятся счастливыми, всем довольными людьми, без комплексов, «завихрений» и тому подобной гадости. Послушны, трудолюбивы, исполнительны, обычно безынициативны и апатичны, уважают начальство и любую власть, что делает их хорошими исполнителями. По ироническому замечанию одного из психологов, возможно, именно дебилов придется со временем признать воплощением нормы, так как, повзрослев, они становятся тем, что ближе всего к понятию «почтенного обывателя» («простой советский человек», «простой американский гражданин», «почтенный европейский буржуа» etc). К 45 годам дебила уже невозможно отличить от обычного среднестатистического обывателя, чье времяпровождение сводится к употреблению пива под присмотром телевизора.
Удельный вес дебильности нигде официально не превышает 3,5%. Но многие сомневаются в этой оценке, так как ни одна страна не заинтересована в её точности. По многим регионам нет вообще никаких данных, а специализированные исследования (в школах, армии, службах занятости) дают данные на порядок выше. Поэтому в ряде стран решено, вслед за США, где дебильность является национальной гордостью, признать его легкие формы нормой и максимально сократить в общедоступных школах долю обязательного учебного материала, требующего способностей к абстрактному мышлению.
Имбецильность
Имбецильность (от лат. Imbecillus — слабый, немощный) — средняя степень олигофрении, малоумия, интеллектуального недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга плода или ребёнка в первые годы жизни. При имбецильности дети отстают в физическом развитии, отклонения заметны внешне. Имбецилы понимают речь окружающих, сами могут произносить короткие фразы. Речь бедна и неправильна, но более или менее связна. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок, резкое недоразвитие внимания, памяти, воли. Страдающим имбецильностью удаётся привить элементарные трудовые навыки, обучить чтению, письму, счёту, программированию на PHP, etc. Некоторые имбецилы способны производить элементарные счетные операции, усваивать простейшие трудовые навыки, навыки самообслуживания и правку статей на Луркоморье. Эмоции имбецилов более дифференцированы, чем у идиотов, они привязаны к модераторам W родным, адекватно реагируют на похвалу или порицание. Имбецилы лишены инициативы, инертны, внушаемы, легко теряются при изменении обстановки, нуждаются в постоянном надзоре и уходе, при неблагоприятном окружении поведение может быть асоциальным.
Идиотия
Идиотия (от лат. Idiōtēs — невежда, неуч, букв. отдельный, частный человек) — самая глубокая степень олигофрении («малоумия»), характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления. Больные, страдающие идиотией, не могут ходить, у них нарушено строение внутренних органов. Идиотам недоступна осмысленная деятельность. Речь не развивается. Идиоты произносят лишь отдельные нечленораздельные звуки и слова, часто не понимают речи окружающих, не отличают родственников от посторонних.
Они не способны к самостоятельной жизни: не владеют элементарными навыками самообслуживания, не могут самостоятельно есть, иногда даже не пережевывают пищу, неопрятны, нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Мышление не развивается, реакция на окружающее резко снижена. Эмоциональная жизнь исчерпывается примитивными реакциями удовольствия и неудовольствия. У одних преобладают злобно-гневливые вспышки, у других — вялость и безразличие ко всему окружающему».
После, изложенного выше материала, нас может успокоить следующее. Когда мы сделали запрос в Яндексе – «Количество идиотов в России», нашлось 8 миллионов ответов. Так, что все не так безысходно?! По крайней мере, 8 миллионов интересовались этой проблемой.
Это наш вывод подтверждают и слова из Ветхого завета — книги Екклесиаста или проповедника (Еккл. 1. 9:12): «9. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 10. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас. 11. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. 12. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; … ».
«Праздник жизни продолжается». Вот реальная среда существования, в частности, всех мировых религий. Да сохранят умные люди мир на планете, и да поможет им в этом Бог.
[1] Умма (араб. أمة) — арабское слово, означающее «сообщество» или «нация». В исламе слово умма обозначает сообщество верующих (уммат аль-му’минин), то есть весь исламский мир, вне зависимости от стран, границ, национальностей, и тому подобного. Фраза умма вахида («одно сообщество») в Коране обозначает объединённый исламский мир. С другой стороны, в арабском языке слово умма также может использоваться в западном значении нации, например аль-умам аль-муттахида (Объединённые нации). Адрес ссылки в Интернете – Умма – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%29 . В древнем Шумерском царстве был город с таким же названием: «Умма — древний город шумеров, на территории Междуречья (современный Ирак). Умма (шумер. Убме, нане Джоха). Общинный бог Шара (воскресающий и умирающий бог плодородия). Вся известная история этого города прошла в войнах с городом Лагаш. Первым известным энси (правителем) Уммы был Уш. В его правление вспыхнул конфликт с Лагашем из-за плодородной полосы Гуэден, которая проходила между границами Уммы и Лагаша. В сражение с лагашцами, Уш был разбит, а Умма вынуждена подчиниться Лагашу. …» — Адрес ссылки в Интернете – Умма город в Шумере – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EC%EC%E0.
[2] Адрес ссылки в Интернете – Ислам – Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
[3] Адрес ссылки в Интернете — Дар аль-ислам — Википедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
[4] Адрес ссылки в Интернете – закладка первого камня Соборной мечети и Исламского учебно-культурного центра в Ингушетии — http://ingush.tv/novosti-ingushetii/1811-20-aprelya-2011-goda-v-stolice-ingushetii.html
[5] Адрес ссылки в Интернете – Храм Христа Спасителя в Москве — http://www.xxc.ru/complex/xxc/index.htm
[6] Адрес ссылки в Интернете — http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C
[7] Адрес ссылки в Интернете – «95 % населения Идиоты» — http://lurkmore.ru/95%25_%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%E8%FF_%97_%E8%E4%E8%EE%F2%FB